
Оскар Уайльд

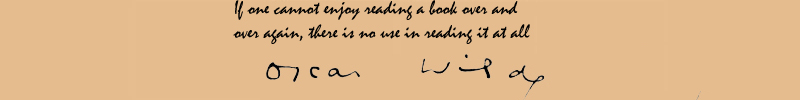
Оскар Уайльд. Humanitad (Во человечестве)
Humanitad - Во человечестве
Зима в своих правах: прозрачен лес.
Лесная чернь, кустарник жмется зябко
К сосне, что гордо обойдется без
Золотных тканей Осени. Как тряпку,
Парчу и шелк Зима срывает, лишь
Камзолу хвойному верна... Вихрь задувает с крыш,
Как из каверн Сатурна... сена клок
Застрял в заборе, — там прошла телега
С добычей Лета, сочный сей кусок
Везя на горку... на проталах снега,
К жердям поближе, блеющий отряд —
Овечье стадо... со двора псы хмуро семенят
К струе воды замерзшей, и домой
Разочарованно бредут, им крика
Пастушьего недостает зимой...
Над головой грачи кружатся дико,
Над стогом, что роняет льдяный блеск...
А с веток капает... с болота долетает треск,
Где выпь шагает важно и, крыла
Вытягивая, шею клонит часто,
Да с гуканьем, чтобы луна взошла...
Вот заяц ковыляет вдаль по насту...
Заблудшей чайки раздраженный, хрип —
Там серый ком сырого снега к серой мгле прилип.
Зима в своих правах: хозяин в дом
Несет вязанку — здоровяк, меж нами —
Он на плиту встает пред очагом,
Меча полешки в чахнущее пламя,
И ржет, коль зарево вдруг вспыхнет, и
Отпрянут дети... Что ж, допустим, жив весною ты:
Невзрачный крокус прободает снег,
В качающихся примулах проталы
Поблекшие — опушки лесосек,
Но только дождь притронься к ним, сей шалый
Горячий поцелуй — и сплин зимы
Умрет в слезах... а кролика круглее глаз из тьмы
Еловника глядит, где шишек тьма...
Подснежники взбегают на пригорки,
Бросаясь под ноги... чуть не в дома
Летят дрозды по вечерам... и зоркий
Все дольше с нами глаз светила. Ах!
Как наблюдать Весны чудно? Зеленый смех в глазах
И танец, розой кончившийся вдруг
(Сладким раскаяньем!) — шиповник алый
Разбил коробку изумрудных мук,
Огнем и золотом дрожат бокалы,
С излюбленным напитком пчел... и вслед —
Нарцисс цветет, затем полынь, и с яблонь льется свет.
Затем выходит сеятель в поля,
За ним мальчишка тащится, пугая
Ворон-воровок, а затем и для
Каштана время, свечи зажигая,
Он весь — сиянье... и летят цветов
Благоуханные клочки... набат колоколов —
Как шепот, колокольчиков распев —
Старинный мадригал с утра, жасмин — о!
Он сам себе звезда, вот львиный зев,
Чей язычок свисающий — кармина
Пыланье... в пыльном бархате всегда
Царь-роза — эглантерия: царь клумбы без стыда
Роняет лепесток за лепестком,
Анютины отяжеляя глазки,
И хризантем, тюрбанов пестрый ком —
Вразвалочку на берег... без опаски
Фиалки из укромных выйдут мест...
Боярышник, от ягод ярок, чист, безлист, отверст.
Счастливый луг! И трижды — дерева!
Вся в маргаритках Королева чащи
В венце из ирисов пройдет сперва,
Затем пастух овец погонит к чаше
Пруда, и ровное гуденье пчел
В листве зеленой поплывет, что б ты ни предпочел...
Цветок измены — просека светлей
С тобой, красавка». Нежные черницы —
В накидках белоснежных круг лилей
Перебирает жемчуг, как молиться
Настанет час, и воздух от гвоздик
Как будто прян, и рад всегда им путешественник.
Невеста мира, щедрая Весна!
Тучней становится с тобою телка,
Растут рога у козочек, ясна
Пора цветения лозы из шелка,
Где сок забвения, что древле жрец
Из мандрагоры добывал иль сеял мак-сырец...
Да, древле — древле мне любой щегол
Дарил восторг, и юношества нотки
Мгновенно отзывались, звал и вел
Лес — миф, идиллия — и путь короткий
Был к рифме. — Разве я теперь не тот?
Иль к чистой радости привит познанья горький плод?
Да нет, ты тот же: это мне в твое
Вторгаться одиночество негоже,
Ведь если я в слезах бесцельных, то —
Пусть за компанию! — ты плачешь тоже.
Не глупо ль — в столь прекрасное вино
Отчаянье, как яд, вливать, коль на душе темно!
Ты тот же самый: это у моей
Души, любовницы капризной духа,
Досадовать привычка, мол, плебей,
И царством духа править. Голос глухо
Рек: «Мудрость, точно, есть», — но глубь в ответ
Сказала тихо: «В бурном море, в страстном море — нет».
Как в чистом пламени гореть, колен
Не преклоняя, с честью соприродной
И гордостью? Ведь унижает плен
Поверженного, по себе бесплодный, —
Какое зелье у каких Медей
Научит жить в покое, не завися от людей?
Минорные аккорды под конец —
Собрат мой, музыкант, оплакав звуки
Незавершённые, пал как Певец,
А я — наследник этой тяжкой муки,
Молчащий Мемнон с прорезями глаз,
Жду музыки столь светлых зорь, что не взойдут сей час.
Погасший факел, кипарис и мрак,
И горстка праха в урне отдалённой,
И XAIRE на плите, — не лучше ль так,
Чем снова жить, и вновь в тоске зелёной,
Позволив сплину властвовать опять,
Дабы в мычащей немоте, в бессильной мгле, страдать?
Нет! Видимо, тот бог, что мак втройне
В венки вплетает у одра больного,
С сиделкой схож, что все твердит о сне,
Но не дает его... Не помнит слова...
В конце концов смерть так груба, и прост
Ключ был бы к тайне тайн, когда смысл жизни лишь погост.
Вот, например, Любовь! Прекрасный бред,
Но с царской властью, что неукротима,
Чей сладкий яд в сознанье гасит свет, —
Увы! с ней, милой, прочее все — мимо,
Нет жизни, даже если память мне
Забыть не даст тех из божеств Олимпа, что к весне
Моих цветущих лет, на краткий срок
(Бездельем сладостным мы были живы),
Ввели в беспамятство, так что упрек —
Нежнейший — Истины, пусть справедливый,
Звучал как голос ревности, — о, прочь!
Охотница, с которой рядом побледнеет ночь
Злой Артемиды, — пил довольно я
Блаженств, — избавь! — когда б ты в искушенье
В бушующие воды, в те края
Направила корабль, где я крушенье
Переживаю, я бы и тогда
Сказал: Уйди! Я ныне строг, и на страстях — узда.
Я строг теперь... И не твоя, Любовь,
Рука пройдет через решетку сада
И душу вызволит, нахмурив бровь.
Другой богини воссияй награда,
Я весь Ее, которая — ни с кем,
Чью неприступность лик Горгоны охранит и шлем.
Пускай Венера тискает пажа,
Целует в губы, волосы лохматит,
С копьем своим и сетью, пусть, дрожа,
К ней на свиданье мчит Адонис, — хватит!
Любовным чарам я не поддаюсь,
Хотя один ее оплот еще занять стремлюсь.
О, если бы я стал тем пастухом,
Что видел, будучи на Иде, облак
Между Тенедосом и Троей, в нем
Вдруг Афродиты прозревая облик, —
Не ради бы Елены наших дней
Просил бы яблоко принять, упавши в ноги ей.
Воскресни же, Афина, серебрясь
В сиянье! Пусть уж мои губы сиры,
Жить вдохнови: тебе ведь, вдохновясь,
Пел гимны тот, кто меч не меньше лиры
Ценил — так шел на Марафон Эсхил:
И после Мильтона наш край еще сынов родил
И все ж мне рано в Храм твой, чтоб утих,
Отвергнув страх, желаний голос властный.
Невозмутимости такой своих,
Мудрец, афинян ты учил напрасно:
Владеть собой, любить себя, покой
Найти в себе, оставив бредни суеты мирской.
Увы! Красноречивого чело
Тишайшее, глаза, где вечность светит,
Святят лишь храм, затмение нашло
На Мудрость... Мнемосина, кто заметит,
Бездетна, и в ночи ее ума
Сама сова Афины потерялась — всюду тьма.
И к Знаньям также потерял я вкус,
Хотя они, чаруя неизменно,
Хватают звезды с неба — время Муз
Развешивало тайны-гобелены
Пред взорами, что проникали мрак:
На свитках Полигимнии любил читать я, как
Азийские шли полчища, текли
На полисы. Ногой в златое стремя,
С кривым мечом, где камешки цвели,
С щитом из кожи, с гребешком на шлеме,
Скакал Мидянин — справа тополя,
А слева море — в Артемисий; надвое деля
Страну, там Фермопилы шли стеной
С крутым ущельем, где спартанцы-львята
Снискали славу перед всей страной!
Геройством греков восхищаясь свято,
Разбив шатер на золотом песке,
Два дня он любовался, а на третью ночь, в леске
Укрывшись, влез на гору и с горы
Им сел на плечи, кончив наконец-то
С любимцем Спарты. Рано, до поры
Венец Эврота пал. Перс, впавший в зверство,
Еще не знал, что им готовит Бог При
Саламине, — но туман клубится между строк...
Что грек в строю? мой дух не привлечет
Сей диссонанс — не слишком упиваюсь
Геройством: полдень на часах пробьет,
А шестеренка, также я вот маюсь,
Не видит солнца. Тщетно ловит взгляд
Мечтания — с той стороны часов они летят.
Так пусть научит живший среди гор,
Что значит Мудрость! Пусть ответят дали
На Хелвеллине: спор, борьба, раздор —
Ручьев хрустальных, скал твоих бежали, —
Где муж столь совершенный, что спроста
Отважился наш грешный век поцеловать в уста?
О лавры Райдэла! Где он, тот муж,
Приют в тебе нашедший, где он, толком
Не коронованный властитель душ,
Достигший Врат, Любовь у коих с Долгом
Соединяется, — кто удостоен был,
Был Правом приглашен и пир Мудрейших посетил.
Мы ж, пасынки Науки, наизусть
Девиз любой из школ Эллады зная,
Все ж им не следуем, и славен пусть
Сразивший Гидру меч, нужна иная
Нам доблесть, ибо меч затуплен сей,
Кто нынче к Древности ногам падет, столь предан ей?
Как тут в сердцах не скажешь: «Ихавод»!
Последний сын Италии великий
За дело Божье пал, хотя живет:
Земной твой прах, как в некой базилике,
Скрывает в мраморной лилее
Град Лилей — о кампанила Джотто! Пусть ни хмурый взгляд
Небес, ни буря не спугнут сей сон,
Ни Арно ржаво-золотые волны...
Мощней не видел воина, чем он,
Сам Капитолий, даже славой полный,
В те дни, как Рим и вправду Римом был,
В Невесты взяв Свободу, чей лишь взгляд — и вмиг без сил
Бежало Таинство, стеная, вон,
Со старцем, ржавые ключи схватившим,
И трепеща, ведь похоронный звон
Династиям, теперь всего лишь бывшим,
Сметен, как вихрем раненый орел
Был смят, лишь триумвир в священный Рим вошёл,
В его святое сердце, ведал ведь,
В чем святость Рима, низкую волчицу,
Из логовища льва прогнав... Что ж, впредь
Священный прах твой заключен в гробницу
С парящим сводом, — Брунеллески там
Затмил окрестности. Спой, Мельпомена, френос нам
С трагическими вздохами! — и пусть
Завидует Веселье... Музы, ныне
Спуститесь с неба, что не верит в грусть,
Пролейте скорбь о том, кто в Рим святыни
Внес Марафона — факелом побед,
Заставив солнце воссиять в краях, где солнца нет...
Храни же, кампанила Джотто, прах,
Пусть молодые флорентийцы к раке
Несут венки. Растут цветы в лесах
У Валамброзы, огненные зраки,
Какими устлано надгробье то.
Душа его — светило, что не может зреть никто —
Могучий диск небес, чей бег, с орбит
Смещенный вихрями к пределу мира,
Где Хаос у границ Творенья спит
И крылья Херувима тонут сиро
В пустом Ничто, — чей бег продолжит путь
Там, в пустоте... и все ж он здесь, будь пыль он или будь
Из глины создай: Паркам ни к чему
Их ножницы. И, значит, выше взоры,
Ворота вечности! Рассей же тьму,
Рожок серебряный! Ведь подлость в норы
Свои укрылась, и теперь она
Свой сладкий вспоминает грех и Богу отдана.
Но что с того, что скрылся в свой вертеп
Распутство порождающий источник?
На Мюнхенских фронтонах не свиреп
Грек, умирающий смеясь, но точных,
Зеркальных копий красоты такой
Не сыщешь у Эгины, одиночество с тоской
Мешающей, а мы — без образца
Для подражанья — серы: если станет
Вдруг факелом звезда, ее с лица
Небес — сотрет рассвет. Прах в бездну канет.
Мадзини страстью больше не горит!
Италия! Ниоба хоть с камнями говорит,
А кто твоих здесь воскресит сынов,
К тому же претерпевших не за Бога,
Кто с них отринет мертвенный покров,
Кто их, восставших, встретит у порога?
Столкнуть бы нам от гроба камень и
Припасть к цветам их бледных ран, целуя их, в любви
К Италии, о зримый наш исток!
Блаженная среди других, но в горе,
Поскольку калабриец изнемог
Под Аспромонте, но с тобой во взоре
Счастливом: в дни, как веру продают,
Он за Свободу пал! — а мы опустошенно тут
Поруганную видим Честь, в цепях
Очаровательную Милость: здесь же
Крадется Нищета, и второпях
Сирот уносит... Где же он, тот свежий
И сильный голос: «Мы — несчастный люд,
Великого наследства недостойный!» Где как суд
Суровый слог? Где Мильтон? Где тот меч,
Что праведно карает? Мы — эпоха
Безглавая, не прозвучит нам речь
С треножника: «рожающая плохо,
Больная мать родит урода», — вот
Что лучший наш порыв принес — рождается урод,
Плод незаконорожденный, о — с глаз!
Анархия — Свободе ты Иуда,
Так Вседозволенность крадет из касс
Либерализма, да нища покуда;
Невежество — к Братоубийству мост,
Внук Каина и Зависть-Змей, что свой кусает хвост,
С железной хваткой Алчность, Скопидом,
В чью пасть тупую все летят припасы,
Под стук колес, — вот семя, что живьем
Проглотит сеятеля, — их гримасы
Теперь обычны в Англии, нейдет
Прекрасное по мерзким мостовым который год.
Осквернено, что даже Кромвель здесь
Щадил, повсюду — мерзость запустенья,
На милость ветру отдан труд, а спесь
Рукою хищною правит обновленье,
Упадок нежно обнимает крах,
И варвар нынешний — он все, все превращает в прах.
Где Мастерство, что в Линкольн, в мощный храм
«Хор ангелов» ввело с их нежной песней,
Покуда мрамор сам, как фимиам
Гармонии, не зазвенел чудесней
Цевницы? Где искусная рука,
Боярышник со свода наклонившая слегка
В соборе Саутвелла, строя Дом,
Который Лилии долин всем прочим
Цветам английским предпочел? Притом,
Все то же солнце светит нам: и в отчем
Краю все те же гобелены ткут
Весна и Осень — да вот Дух уже не дышит тут.
И, может, лучше было бы весьма, —
(Ведь Тирания — дочь инцеста; с мужем —
Убийцей ее брата, и Чума —
В ее покои, по кровавым лужам
Идущая...) и лучше б — в пустынь мне,
С неоскверненною душой моей наедине.
Великодушие, свобода, лад,
Жен целомудрие, в здоровом теле
Здоровый дух, мужская дружба: вряд
Ли что-то выше есть, что нас на деле
Возвысить может: ни Сивиллы взор
У Agnolo, на свиток обращенный, — приговор,
Суд человечеству, ни Тициана кисть:
Девушка с лилией в руке лилейной,
Ни Мона Лиза, ну же, улыбнись, —
Нет, жизнь все больше, чем благоговейно
Написанный архангел — мы в себе
Увидеть можем Господа! Так древний грек в борьбе
С собой обуздывал в ту степень страсть,
Чтоб в мраморе, глядящем безмятежно,
Вокруг святынь Афины лечь и часть
От божества приять в улыбке нежной,
Симметрией смирял он спор, войну, —
Хоть это б в нас задело ту живейшую струну,
Что между матери первейшим рук
Касанием и скорою могилой
Натянута, и мы смогли бы вдруг
Такую силу обрести, чтоб сгнило
И сгинуло Соблазна и Греха
Прибежище, чтоб Страсть свои спасала потроха;
Смогли бы слить мы Дух и Плоть, со всем
Умом и чувством, чтобы не был всуе
Час прожит, чтобы в единеньи сем
Душа, как свет торжественный ликуя,
Царила, отражая внешних сил —
Тщеты и злобы — натиск, укрепивших мощно тыл;
И видеть в ясной целостности всех
Вещей и сущностей борьбу, к покою
Ведущую, и твердо знать: успех
В цепи причин есть следствие с такою
Слиянностью отдельных форм в одно,
Что дарует святой восторг! В нем — истинно — дано
В чудесной вездесущности Твоей,
Жизнеустройство, где живейший разум
Предельно выражен, и смысл смелей,
Чем здравый смысл, воспламеняет разом Сознание; в гармонии с Тобой,
Мистической, превыше, чем гармония любой
Небесной сферы, — извлекать аккорд
Такой певучести, чтоб он по сферам
Небесным плыл, и возвращался, горд,
К Отцу и Господину, став примером
Ликующих воскресших сил: кто б смог
Такое — лучшую из вер ему бы вверил Бог.
Как было просто, когда мир был юн,
Свободной жизнь хранить, лелея девство.
С унылых наших губ, с унылых струн —
Унылый звук летит; забыв про детство,
Мы, скорбные изгнанники, должны
Довольствоваться хаосом, себя же лишены.
И вещи потеряли красоту,
Очарованье свежести. Мы — жалки,
Живя не собственную жизнь, а ту,
Несчастную, как будто из-под палки.
А как творенья были б хороши
В симфонии таинственнейшей тела и души.
Но мы ее оставили, в пыли
К Голгофе новой волочась, где мнится —
Так человек в стекле свой видит лик —
Род человеческий, самоубийца,
Немым упреком: ведь в крови рука
Такого же маньяка воскресит наверняка.
О, жалящий безжалостно Венец! —
О, Чаша человеческих несчастий!
Ты ради нас, нелюбящих овец,
Все длишь в столетьях череду напастей.
До нас же, суетных, все не дойдет:
Копье в Твой бок вонзив, в себя направили мы дрот.
Мы — сеятель, и мы же — семена,
Покров ночной и ранний свет неверный,
Копье и рана, доблесть и вина,
Мы — жертва, мы — предателя прескверный
Рот... тихо в бездне, где безлунный мрак:
Но царь природы сам себе наидичайший враг.
Неужто выдохся первейший Дух,
Что остается неизменным в водах
Коловращений, хищных заварух,
В незрячем Хаосе, при мощных родах:
Из пламени и скал — планет и сфер,
Из Слова — Человека, совершеннейшей из мер.
Нет! мы, почти прибитые к кресту,
Кровавым потом истекая, все же
Сойдем на землю и обрящем ту
Все-целостность, чтоб не смущал нас, Боже,
Твой жезл, иссопом налитая плоть,
Твой идеальный человек — Твой слепок — Ты, Господь.
Перевод: А. Прокопьева
Оскар Уайльд. Humanitad («Во человечестве»). 1881 г.
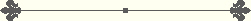
При заимствовании материалов с сайта активная ссылка на источник обязательна.
© 2016—2026 "Оскар Уайльд"