

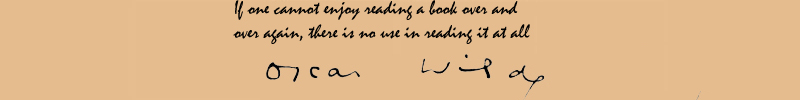
Жак де Ланглад. Оскар Уайльд, или Правда масок. Глава VIII. Ему нужно было умереть
Оскар Уайльд дорого заплатил за то, что был Оскаром Уайльдом. Но быть Оскаром Уайльдом — верх роскоши. Так что вполне естественно, что это стоило так дорого
Ф. Харрис.
Оскар Уайльд приехал в Париж 13 февраля 1898 года, в тот самый день, когда в книжных лавках появилась «Баллада Редингской тюрьмы»; он остановился в отеле «Ницца» на улице Боз-Ар. Уайльд полагал, что вырвался из ада, хотя и был уверен, что это — начало медленного погружения на самое дно.
В начале 1898 года роль Британии в Африке усиливалась, всего несколько месяцев отделяли Европу от Фашодского кризиса, который вылился в опасное противостояние между Англией и Францией, так что напряженность между ними продолжала расти. Франция, вконец запутавшаяся в деле Дрейфуса, которое активно раздувалось Англией, приняла в лице Оскара Уайльда мученика «коварного Альбиона», который превратил писателя в жертву собственной непорядочности. Такой отвлекающий маневр пришелся очень кстати, так как общественное мнение было обеспокоено признаниями Эстерхази своей жене, которые содержали обвинения в адрес генерального штаба. «Вы должны, наконец, узнать правду: я автор этого бордеро; но успокойтесь, мне нечего бояться, потому что если я и написал это бордеро, то по приказу и под диктовку полковника Сандерра». Кроме того, в результате громкого процесса, в ходе которого адвокаты Золя постарались пролить свет на условия, мало кому в то время известные, при которых Дрейфусу был вынесен обвинительный приговор, автор статьи «Я обвиняю» был также признан виновным. В такой-то обстановке потрясенная Франция смело обвиняла Англию в невзгодах, выпавших на долю великого поэта, приговор которому вынесло лицемерие викторианской эпохи, общество торговцев, отрицающих самое святое.
Да, именно жертва, человек, полностью подавленный двумя годами исправительных работ, растерявшийся после ухода Дугласа, лишенный каких бы то ни было амбиций, принял у себя в гостинице О’Салливана. «Когда я был молод, моими героями были Люсьен де Рюбампре и Жюльен Сорель. Люсьен повесился, Жюльен кончил жизнь на эшафоте, а я отсидел в тюрьме», — сказал ему Уайльд с отчасти наигранной горечью. О’Салливан довольно быстро удостоверился, что литераторы, принимавшие Уайльда в Париже во времена его славы — Марсель Швоб, Анри де Ренье, Октав Мирбо, Анатоль Франс… — старательно избегают встречи с писателем, который нередко появлялся в ресторане у «Прокопа» и усаживался за тот же столик, за которым любил сидеть другой изгнанник: Поль Верлен.
Между тем очень скоро Уайльд обзавелся новым почетным эскортом, который состоял из Жана де Тинана, Феликса Фене-она, Жана Риктюса, Анри Даврэ, Эрнеста Ла Женесса, Антуана… не считая преданных друзей: Росса, Тернера, Шерарда и Фрэнка Харриса. А самое главное, он познакомился с юным Морисом Гилбертом, который был его правой рукой на протяжении последних лет. В начале марта он переехал в отель «Эльзас» на той же улице, который, по его словам, был «значительно лучше и вполовину дешевле». Первый тираж «Баллады» разошелся за несколько дней. Второй вышел 24 февраля, и Уайльд попросил своего издателя дать рекламу в газеты. 19 февраля Мор Эйди опубликовал о нем хвалебную статью, а 27-го «Дейли телеграф» приветствовала возвращение Оскара Уайльда в поэзию. Вскоре вышла еще одна статья, написанная Артуром Саймонсом, которая не оставляла уже ни малейшего сомнения относительно того, кто в действительности скрывался за подписью СЗЗ. «Санди спэшл» писала: «Никогда доселе, со времен первого издания „Сказания о старом мореходе“1, вниманию английского читателя не предлагалась столь странная, чарующая и столь мастерски написанная баллада». Уайльд разослал экземпляры своей книги Фрицу Таулову, Фрэнку Харрису и Констанс, которая, не в силах сдержать эмоций, писала: «Меня ужасно взволновала великолепная поэма Оскара, из которой до меня доходили отрывки, печатавшиеся в „Дейли кроникл“. Я узнала, что тираж разошелся в один день и что количество новых заказов все время увеличивается, а это очень хорошо, поскольку приносит деньги! Это страшное и трагическое произведение, которое заставляет плакать». Кроме того, что поэма принесла доход, она вернула Оскару Уайльду звание художника, «право гражданства», как сказал он сам. Роуленд Стронг, получив в подарок экземпляр книги, ответил восторженным письмом и с тех пор сблизился с Уайльдом, который не замедлил обратиться к нему с просьбой о ссуде. Анри Даврэ, который вел рубрику зарубежной литературы в «Меркюр де Франс», опубликовал положительный отзыв о поэме Уайльда, и тот ответил ему: «Я решил написать Вам несколько слов, чтобы еще раз повторить, насколько был тронут и удовлетворен Вашей похвалой в адрес моей „Баллады“ и Вашим вниманием к ней. Я бы очень хотел, чтобы она была опубликована в Вашем переводе».
Несмотря на трагические события, которые преследовали Уайльда в течение полугода, пока он находился вместе с Бози, он не смог окончательно отмежеваться от прошлого и написал об этом Россу, который постоянно упрекал его за бурные любовные приключения, не сходившие со страниц скандальной хроники: «Напрасно на меня все накинулись из-за Бози и Неаполя. Патриот, брошенный в тюрьму за любовь к родине, продолжает любить родину; поэт, наказанный за любовь к юноше, продолжает любить юношей. Изменить образ жизни значило бы признать ураническую любовь недостойной». Память об этой любви давала ему мужество продолжать жить и преодолевать по мере сил материальные трудности, бывшие следствием его собственной безответственности. Несмотря на ренту, которую выплачивала Констанс, авторские отчисления за «Балладу», авансы, получаемые от разных издателей, он постоянно сидел без денег и вынужден был, скрывая стыд, все время выпрашивать то пять фунтов, то двести франков у всех, кто продолжал дарить ему свою дружбу.
И только «малышу Морису», обладавшему молодостью и красотой, похоже, удалось избежать таких просьб, хотя, впрочем, он при всем желании и не смог бы их удовлетворить. Уайльд договорился с Даврэ о переводе «Баллады», в работе над которым он принял активное участие, внося исправления и делая свои предложения, большинство из которых были учтены. Но энтузиазм его быстро иссяк. Резко отрицательная и грубая критика со стороны Хенли, встреча с директором «Меркюр де Франс» Валеттом, который отказался уступить требованиям Уайльда, привели его в отчаяние; наконец, сам перевод, судя по тому, что Уайльд о нем писал, не вполне удовлетворял его: «Эта вещь очень трудна для перевода, тем более что Даврэ, к сожалению, и как ни странно, никогда не сидел в тюрьме и не знает тюремной лексики (…) Мне придется просидеть над этим переводом не один день». И все же создается впечатление, что к нему время от времени возвращалась прежняя радость жизни — достаточно было пообедать с Фрэнком Харрисом у «Фуайо», прочесть благосклонную статью в «Ревю бланш» или зайти в дом Родена на Выставке 1898 года, вызвавшей у него следующие мысли: «Статуя Бальзака просто великолепна, именно так выглядит или должен выглядеть настоящий романист. Львиная голова падшего ангела, одетого в домашний халат».
Тем не менее трагедия его жизни постоянно омрачала существование Уайльда, каким бы спокойным оно ни было. На него накатывали волны грусти, например, когда Карлос Блэккер сообщил, что получил письмо от Констанс, отправленное 4 марта: «Оскар живет или, по крайней мере, жил в отеле „Ницца“. Не затруднит ли Вас сходить к нему? Как Вам известно, он очень дурно обошелся со мной и моими детьми, поэтому любая возможность дальнейшей совместной жизни исключена; но я очень волнуюсь за него, как и за всех тех, с кем была раньше знакома. Я узнала, что сейчас он ничем не занят, а только лишь пьет, а также что он расстался с лордом А. и получил двести фунтов от леди К.». Карлос Блэккер, богатый англичанин, живший большую часть времени в Париже, где он с живейшим интересом следил за ходом дела Дрейфуса, не мог отказать Констанс в этой услуге. Он написал Уайльду письмо, а затем встретился с ним в гостинице. Уайльд по-прежнему был сердечен, ироничен и полон блеска, но ему все труднее было скрывать чувства, в которых он сам недавно признался в письме к Блэккеру: «Жизнь, которую я так любил — слишком любил, — растерзала меня, как хищный зверь, и, когда Вы придете, Вы увидите, в какую развалину превратился человек, который некогда поражал, блистал и был неподражаем (…) Вряд ли я когда-нибудь вновь возьмусь за перо: радость жизни ушла из меня, а она, наряду с силой воли, есть основа любого искусства».
Создается впечатление, что Уайльд дошел до предела физических и моральных возможностей и что все его интересы ограничивались в тот период заботой о добывании денег. Он был вынужден питаться в дешевом ресторане и свести расходы к двумстам пятидесяти франкам в месяц, он, который во времена своего величия еженедельно тратил вдвое, а то и втрое больше! Но таков был теперь его доход, выплачиваемый, так же, как, впрочем, и доходы Бози и Тернера, при условии «хорошего поведения», — любопытное смешение щедрости и лицемерия, столь характерное для викторианской эпохи! Своеобразное отношение к художникам такого масштаба, попадавшим в положение полной зависимости, нашло еще одно подтверждение в очередном длинном письме Констанс к Карлосу Блэккеру, в котором она детально разъяснила материальную сторону своих отношений с Уайльдом, в то же время сознавая бесполезность каких бы то ни было объяснений. С трогательной наивностью она описывала поведение мужа, признаваясь при этом в собственной привязанности к отцу своих детей, которого она сама лишила прав на отцовство. В действительности, прожив с мужем целую жизнь, она так и не поняла в нем главного, она не распознала его гениальности и его безумия. А муж ее в это самое время вновь наводил справки о Бози, который был с матерью в Венеции и собирался возвращаться в Лондон; игнорируя возможные последствия, он сделал остановку в Париже и снял квартиру на авеню Клебер. Да, реальную жизнь в конце этого 1898 года вернее назвать кошмаром: только что умер Бердслей2, влачил жалкое существование Даусон, перебираясь из одной мансарды в другую, скатывался к полной нищете Кондер, а Симеон Соломон искал забвения в наркотическом дурмане. Таким был конец «сиреневого десятилетия», трагедия которого оказалась достойной той славы, что сопровождала его в течение всего последнего десятилетия XIX века.
Уайльд в очередной раз выступил с разоблачением варварского тюремного режима, принятого в Англии. Сначала он написал криминалисту Джорджу Айвсу, а затем, спустя два дня, 23 марта 1898 года отправил в «Дейли кроникл» еще одно письмо, которое было помещено на ее страницах под заголовком «Не читайте этого, если хотите сегодня оставаться счастливыми» в номере от 24 марта, то есть в тот самый день, когда в Палате общин должны были начаться дебаты по вопросу тюрем. После оглашения текста обоих писем на заседании Палаты все предлагавшиеся улучшения содержания арестантов были утверждены в законодательном порядке и вступили в силу в августе 1898 года. Депутат Джон Редмунд, выступавший в качестве обвинителя существующей системы, даже процитировал одну строфу из «Баллады Редингской тюрьмы», вызвав аплодисменты в зале заседаний.
В своем письме Уайльд перечислил три вида пыток, узаконенных в английских тюрьмах: голод, бессонницу и болезнь. Он указал, что необходимые реформы очень просты, но они должны касаться как телесных, так и душевных нужд заключенных, которые пока полностью игнорируются тюремным режимом. Уайльд перечислил все виды страданий и унижений, которые были порождены людским безразличием и жестокостью действующих правил. В заключение памфлета он сказал: «Но чтобы эти первые шаги были действенны, предстоит многое сделать. И в первую очередь самое, вероятно, трудное: научить начальников тюрем человечности, надзирателей — цивилизованности, капелланов — учению Христа». В том же номере «Дейли кроникл» опубликовала стихотворение Стивена Филлипса, предложенное автором «Баллады», не осмелившись назвать его имя и сообщить, что он продал уже десять тысяч экземпляров своей поэмы.
На следующий же день Бернард Шоу выступил в Лондоне на конгрессе Лиги по правам человека с разоблачительной речью по поводу наказания кнутом, которое все еще применялось в тюрьмах. Кроме того, в прессе появилась большая статья, в которой один за другим были перечислены аргументы автора «Баллады Редингской тюрьмы»; автор статьи потребовал от государственного секретаря внутренних дел, чтобы эти аргументы были приняты во внимание до окончания заседания конгресса. «Пришло время положить конец игре в этот неслыханный скандал», — писала «Дейли кроникл» 25 марта. 30-го в газете было помещено интервью с узником, доведенным тюремным режимом до полной апатии.
Старая приятельница Оскара Уайльда Джорджина Уэлдон, прославившаяся тем, что заточила у себя Шарля Гуно, в которого была безумно влюблена, опубликовала собственное письмо о своем опыте пребывания в тюрьме. К ней присоединились другие свидетели тех ужасов, о которых написал Уайльд. В прессе появилось также еще одно письмо, написанное группой женщин, представительниц интеллектуальных кругов Лондона, среди которых были Эллен Терри и мисс Россетти; письмо было адресовано Эмилю Золя. Оскар Уайльд, отверженный, изгнанник, гомосексуалист, стал настоящим вдохновителем целого восстания за права человека! При этом Англия не упускала возможности заклеймить позором безответственность Франции, пославшей подкрепление в Конго для поддержки «миссии Маршана», призванной противостоять «гуманитарной миссии» Англии в Судане и Египте.
28 марта 1898 года Шерард и Роуленд Стронг, заехав за Уайльдом, повезли его на ужин, на котором присутствовал еще один герой дня, майор Эстерхази. «Меня потащили на ужин, чтобы познакомить с Эстерхази. Майор оказался удивительной личностью. Когда-нибудь я опишу все, о чем он рассказал. Само собой разумеется, он рассказывал только о Дрейфусе и К°».Через несколько дней Уайльд сказал Даврэ: «Это автор того самого бордеро, он мне признался. Эстерхази гораздо интересней, чем Дрейфус, который, как выясняется, невиновен. Невиновные всегда неправы. Чтобы стать преступником, необходимо обладать воображением и отвагой, но какая досада, что Эстерхази так и не отправили в тюрьму».
Оскар Уайльд тоже увлекся этим делом, которое восстановило одну половину Франции против другой и разделило интеллектуальные круги на два отчаянно враждующих лагеря. Он не мог не заметить сходства между обоими случаями, своим и капитана Дрейфуса, осужденного без каких-либо доказательств. Как отмечал Жозеф Рейнаш, один из историков, вплотную занимавшихся делом, «этому англичанину, самому утонченному и самому развращенному из людей, было приятно лицезреть шпиона, внезапно ставшего национальным героем». Вместе с Роулендом Стронгом, Шерардом, Эстерхази и еще одним приятелем итальянского военного атташе Паниццарди Оскар Уайльд оказался посвященным во все детали дела, после чего он уже никак не мог не согласиться с открытым письмом Эмиля Золя президенту Республики, напечатанным под заголовком, ставшим навсегда знаменитым: «Я обвиняю», в котором великий романист протестовал против оправдательного приговора Эстерхази, вынесенного по приказу свыше. Но при этом он с удовлетворением встретил известие об отмене, в связи с допущенным нарушением судебной процедуры, приговора, вынесенного самому Эмилю Золя.
Постоянно думая о переводе «Баллады», Уайльд обменивался с Даврэ многочисленными письмами и очень внимательно следил за ходом работы, что не мешало ему заниматься обстановкой квартиры Дугласа, который только что одержал очередную победу, на этот раз над слегка вороватым цветочником, которого тотчас окрестил «Флорифером»3.
7 апреля в Генуе скончалась Констанс; известие стало для Уайльда ужасным ударом, как он сам писал Россу: «Констанс умерла. Приезжай завтра и остановись в моем отеле. Я в великом горе». И Карлосу Блэккеру: «Это воистину ужасно. Я места себе не нахожу. Если бы мы встретились, поцеловались… Но поздно. Как жестока жизнь (…) Я покинул свою комнату, потому что страшусь оставаться один». «Меня переполняет скорбь, — писал он брату Констанс. — Это самая жестокая из трагедий». Эти слова передают ту глубокую нежность, которую Уайльд питал по отношению к жене и которая устояла, несмотря на все испытания; смерть жены оставила его наедине с самим собой, теперь ему одному суждено было нести в себе «великую мировую скорбь», которая с каждым днем была для него все тяжелее.
Однако жизнь требовала свое даже тогда, когда казалась ему столь жалкой, когда все вокруг рушилось. Оскар ужинал с Фрэнком Харрисом, которого познакомил с Анри Даврэ. Покорил совсем юного мальчика по имени Эдмон, дав ему прозвище «Эдмон де Гонкур». Он ужинал с Фрицем Тауловым в «Пуссэ», где встретил Уистлера, сильно осунувшегося, постаревшего и окончательно превратившегося в ведьмака, каким он и был в душе в течение всей жизни. 30 апреля Уайльд присутствовал на открытии роденовской экспозиции на выставке; роденовский Бальзак продолжал шокировать публику, вызвав у одной из дам, дефилировавших мимо скульптора, следующую реплику: «Надо же, а на вид совсем не злой!»
В «Белом журнале» была опубликована статья, посвященная «Балладе». По такому случаю Оскар Уайльд сблизился с редактором журнала Феликсом Фенеоном, вместе с которым нередко захаживал в «Мулен-Руж», где встречался с Иветт Гильбер и Тулуз-Лотреком, который оставил множество свидетельств этих встреч в виде карандашных рисунков и акварелей с карикатурным изображением Оскара Уайльда в виде толстого джентльмена в цилиндре. Уайльд продолжал изводить своего издателя, требуя денег, постоянно жаловался Робби на задержки с выплатой ренты и клянчил деньги у Карлоса Блэккера или Фрэнка Харриса. Нужда стала его навязчивой идеей. В конце концов обескураженный Росс написал Смизерсу: «Я получил ужасное письмо от Оскара, который, как мне кажется, пребывает в страшной нужде, даже если отбросить некоторые преувеличения. Он пишет, что не обедал в пятницу и субботу». На самом деле, пользуясь снисходительностью хозяина отеля «Эльзас» Дюпуарье, Уайльд жил в отеле в кредит, пробавляясь главным образом гостиничными завтраками; здесь также закрывали глаза и на молодых людей, которые приходили к Уайльду под предводительством Мориса Гилберта. Когда Уайльд оказался не в состоянии уплатить за недавно перенесенную операцию на горле, он написал Карлосу Блэккеру: «Такая ужасная и комичная жизнь не может больше продолжаться, и я пишу Вам, чтобы спросить, сможете ли Вы сделать для меня это». Под этим, понятное дело, подразумевалась просьба одолжить тридцать семь фунтов в счет ренты до июля, поскольку Уайльд еще ничего не получил от издателя и поэтому мог себе позволить ужин, только если его приглашал Харрис или кто-нибудь из новых литературных знакомых, таких, как, например, Альфред Жарри4. Жарри прислал Уайльду полное собрание своих сочинений и пригласил на постановку «Короля Юбю», которому Уайльд посвятил следующий забавный комментарий: «Он дебютировал постановкой пьесы под названием „Король Юбю“ в театре „Эвр“. Интрига состояла в том, что все действующие лица говорили друг другу „дерьмо“ на протяжении пяти актов, причем безо всякой видимой причины». В театр Уайльда сопровождал его новый почитатель — молодой и очаровательный Робер Дюмьер, который в 1909 году осуществил постановку «Саломеи» в Театр-дез-Ар.
23 мая 1898 года в суде присяжных департамента Сена-и-Уаза открылся второй процесс над Эмилем Золя. Оскар Уайльд переехал в Версаль к своей хорошей знакомой леди Планкетт, которая снимала здесь просторный особняк5. Затем к нему присоединился Эстерхази, и вдвоем они отправились на слушание дела. Перед зданием Дворца правосудия Уайльду пришлось успокаивать вспыльчивого майора, вознамерившегося спровоцировать полковника Пикара, который, ознакомившись с секретным досье, пришел к убеждению, что автором бордеро, из-за которого осудили Дрейфуса, был Эстерхази, выступивший на этом процессе в роли свидетеля защиты. Что же касается самого Золя, то в беседе со своими адвокатами он выразил сожаление, что его не посадили в тюрьму, где «в тишине своей камеры он мог бы написать еще один роман».
По возвращении в Париж Уайльду, за неимением денег, не удалось встретиться со Стронгом, который вместе с Бози ждал его в Ножан-сюр-Марн, и он отправился вместе с Фенеоном, Жеаном Риктюсом и Стюартом Мериллом в Латинский квартал на праздник дуралеев. «Мы замечательно провели вечер, весь Латинский квартал сверкал красотой и брызгами вина, а студенты, переодетые в средневековые костюмы, казались такими живописными и нереальными», — рассказывал Уайльд добряку Дюпуарье, которому приходилось довольствоваться этими рассказами вместо платы за жилье.
От редактора журнала «Эрмитаж» Оскар узнал, что с ним хотел увидеться Метерлинк, который находился теперь в Лондоне, но должен был скоро вернуться, а пока предложил ему сходить в Опера Комик и насладиться пением своей любовницы, певицы Жоржетты Леблан, которая играла Сафо. Уайльд отправился в театр вместе с Бози, зашел поприветствовать певицу в ее уборной, поразился ее красоте и обаянию и принял приглашение зайти в гости, когда вернется Метерлинк. Что же до музыки Массне, то он считал, что «она, как это принято у Массне, небрежно блуждает, прерываемая извечными ложными тревогами, подлинными мелодиями и бесконечным обозначением тем, не находящих дальнейшего развития». На следующий же день он написал Леблан: «Мадам, не знаю, как отблагодарить Вас за огромное счастье, которое Вы подарили мне вчера в театре, и умоляю оказать мне честь и позволить увидеться с Вами на несколько минут (…) В моей теперешней жизни так мало удовольствий, но вчера вечером я был счастлив. Красота и талант — это такое утешение».
Наконец Тернер выслал Уайльду деньги, и это принесло ему некоторое облегчение. Он сразу же отправился к Бози и его маленькому «Флориферу» в Ножан, затем к Арману Пуэну и Кондеру в Шенневьер-сюр-Марн. Оказавшись снова в Париже, он принял «малыша Мориса», только что вернувшегося из Лондона, где он доставил немало сладостных минут Тернеру и Россу. Уайльд начал подумывать о том, чтобы снять квартиру, чтобы жить там вместе с Морисом, «сладким нарциссом английских прерий». Его нередко можно было видеть на террасе кафе «Пуссе», у «Прокопа», в «Кафе де Пари», где он писал бесконечные письма или делал наброски к задуманным пьесам. Оскар и Дуглас ужинали в самых больших ресторанах и посетили постановку «Ткачей», на которую друзей пригласил недавно примкнувший к их кругу Антуан6. Издательство Смизерса готовилось выпустить «Как важно быть серьезным» и «Идеального мужа». Оскару пришлось отказаться от плана переехать в меблированные комнаты, как из материальных, так и, главным образом, из моральных соображений: те из его гостей, с которыми еще мирились в гостинице, в любом другом месте рисковали быть вышвырнутыми на улицу. В один из дней Оскар и Морис отправились на выставку в Дом Инвалидов, а оттуда — на встречу с Шерардом в «Кэмпбеллс» на улицу Сент-Оноре, где стали невольными свидетелями скандала, учиненного каким-то вспыльчивым противником Дрейфуса, который прямо на улице набросился на человека, которого принял за еврея, с кулаками и криком: «Долой евреев!», что можно было принять за явную провокацию в разгар разбирательства по делу Дрейфуса. Затем, будучи в стельку пьяным, этот тип начал назойливо предлагать прочесть «Балладу», возвестив, что Уайльд, который чувствовал себя очень неловко во время всей этой сцены, является величайшим мастером современной литературы и величайшим человеком. Оскара Уайльда оглушала столь бурная жизнь, которая выглядела карикатурной по сравнению с той жизнью, какую в прежние годы вел он сам.
Печатаясь в издательстве «Меркюр де Франс», поддерживая тесные отношения с Жарри, Фенеоном, Ла Женессом, Жоржеттой Леблан, Антуаном, Тулуз-Лотреком, знакомство с которыми добавляло ему известности, возросшей после успеха «Баллады», вернув себе признание французской прессы благодаря статьям по тюремной тематике, Оскар Уайльд, безусловно, мог той весной 1898 года вновь стать самим собой; он прекрасно понимал это, если верить тому, что он говорил Джорджине Уэлдон: «Лично я, конечно же, считаю, что цель жизни заключается в том, чтобы реализовать себя как личность, реализовать все присущие тебе качества; лично я, как вчера, так и сегодня, могу добиться этого только посредством искусства».
И все же моральные условия вкупе с материальной неопределенностью существования, страшная тяжесть двух лет, проведенных в тюрьме, в конце концов лишили его воли к жизни. Кроме того, новое чувство, которое возникло в «De Profundis», а затем проявилось и в «Балладе», чувство сострадания, рожденное в нем ужасами тюремного заключения, плохо сочеталось с той жизнью, которую он продолжал вести: лишенную всяких иллюзий с Бози в Ножане, восторженную — с Кондером в Бонньере или другими юными партнерами, которых он принимал теперь в маленькой гостинице в Ножане, ставшей приютом последних проклятых поэтов. Оскар испытывал смутное беспокойство, отказываясь от той новой жизни, о которой мечтал в Рединге; кроме того, будучи непоследовательным и слабовольным, он не мог жить без комфорта, а как только дорывался до всяческих благ, бездумно и жадно упивался вином, словами, приключениями. Он стремился угнаться за роскошной и беспокойной жизнью прекрасных 90-х годов, но вынужден был ограничиваться кафе в Латинском квартале да маленькими гостиницами, не в силах выбросить из сердца свою пропащую любовь, чей образ все больше разрушался в его воображении, стоило ему посмотреть на Дугласа, летевшего в пропасть в обществе «Флорифера» или предававшегося разврату с двенадцатилетним мальчишкой, дружком своего цветочника. Он прятал свою абулию за маской художника, которая не могла обмануть даже его самого, особенно когда он оказывался у себя в номере в отеле «Эльзас», занятый бесконечной партией в безик с Морисом. Неспособный вести такую жизнь, которая больше подходила бы автору «De Profundis» или «Баллады», Оскар перестал удивлять мир; его волшебные фокусы утратили таинственность, и теперь он все чаще напоминал жалкого человечка, который сам не знает, зачем живет. Благодаря своим друзьям — писателям и художникам, — которые с радостью его принимали, Уайльд сохранял иллюзию, что и сам принадлежит к их кругу; благодаря щедрости окружавших его людей, он еще мог утешать себя надеждой возврата к прошлому, однако ложь, которую он некогда возводил до уровня произведения искусства, становилась бледной немочью.
В июле он вновь побывал в театре, где аплодировал великолепной Жоржетте Леблан, а затем навестил ее и Мориса Метерлинка у нее дома, неподалеку от Булонского леса, где певица встретила его в гостиной, одетая в тунику из черного атласа, со сверкающей диадемой на голове и с белоснежного цвета ягненком, притулившимся у ее ног. Уайльд любовался красивой зеленой мебелью, расставленной вдоль стен, затянутых белым атласом, слегка хмурясь при виде репродукций Берн-Джонса. Метерлинк не произвел на него особого впечатления, он уже был далеко не тем поэтом, который написал «Принцессу Мален», он был скорее неким писателем-материалистом, озабоченным больше всего собственной респектабельностью, чей иронический портрет Оскар Уайльд нарисовал в одном из писем: «Это добрый малый; разумеется, он совершенно забросил искусство. Его заботит только то, как сделать свою жизнь здоровой и крепкой и как выбраться из сетей, которыми культура опутала его душу. Искусство кажется ему теперь болезнью. А „Принцесса Мален“ — абсурдной ошибкой молодости. Он считает, что будущее человечества принадлежит велосипеду». В другой раз Уайльд ужинал у «Мэра» (достойное место для Оскара Уайльда) с Харрисом, навязывая ему, во-первых, общество Дугласа и заставив, во-вторых, оплатить умопомрачительный счет. Ненадолго он вновь стал прежним Оскаром Уайльдом, говорил, рассказывал, покорял сидевшую за соседним столиком парочку, пожиравшую его глазами: это был Эдмон Ростан в блеске своей славы в сопровождении одной из многочисленных любовниц. Уайльд, развеселившись, наклонился к Фрэнку Харрису: «Он слушал так внимательно, что, мне показалось, он ни слова не понимает по-английски».
Через несколько дней против Эстерхази выдвинул обвинения его двоюродный брат, у которого тот выманил крупную сумму денег, этот брат заявил, что именно майор был автором поддельных телеграмм, сфабрикованных, чтобы скомпрометировать Пикара. Эстерхази взяли под стражу вместе с его любовницей, куртизанкой Маргаритой Паис. Они сознались, что подделали документы, чтобы уличить Пикара и воспрепятствовать его деятельности в защиту Дрейфуса. А за несколько дней до того суд присяжных департамента Сена-и-Уаза вновь вынес обвинительный приговор Эмилю Золя; и тогда же майор Эстерхази, встретив на улице полковника Пикара, поколотил его под аплодисменты толпы, настроенной крайне враждебно к пересмотру результатов процесса по делу Дрейфуса. Уайльда постоянно держали в курсе мельчайших перипетий дела, накалявших страсти публики, которые очень быстро вышли из-под контроля. «Вчера я ужинал со Стронгом специально для того, чтобы увидеться с Эстерхази и познакомиться с Паис, которая оказалась очаровательной, необыкновенно умной и красивой женщиной. Мы с ней и с майором договорились еще раз поужинать вместе в четверг на будущей неделе». За этим ужином Эстерхази продал свои признания Роуленду Стронгу. На следующий же день майор Генри, автор сфабрикованного документа, ставшего уликой против Дрейфуса, кончил жизнь самоубийством. Становилось очевидным, что дело будет пересмотрено; генеральный штаб рисковал оказаться обвиненным в пренебрежении к правосудию. Английская пресса вежливо-снисходительно комментировала следующие одну за другой отставки высших чинов: министр обороны Кавеньяк, генералы Буадефр и Зюрлинден… «Таймс» добавляла: «Необходимо также отметить, что весь мир испытывает сейчас смешанное чувство удивления и грусти, когда обнаружились столь черные замыслы в стране, которую всегда считали оплотом свободы и прогресса». При этом пресса коварно напомнила презрительное отношение Жоржа Клемансо к маневрам «армии, обреченной на поражение», которая к тому времени окончательно запуталась в Фашоде. Таким образом, Франция, оказавшая гостеприимство жертве английского правосудия, также не обошлась без скандала, жертвой которого стал капитан Дрейфус, уже почти четыре года пребывавший на острове Дьявола. Французская пресса еще имела нахальство возмущаться тем, что в лондонском театре «Стандарт» состоялось несколько частных представлений для узкого круга пьес «Правосудие» и «Новая военная мелодрама», не обратив внимания на пьесу Ж. Роклора «Судебная ошибка», премьера которой прошла в Париже 30 июня на сцене театра Мондэн в присутствии многочисленной публики и нескольких про-английски настроенных дрейфусаров. В прессе Эмиля Золя величали теперь не иначе, как «Отец Переполох» или «Мсье-я-обвиняю». Тем не менее все усилия были напрасны, и дело капитана Дрейфуса неумолимо шло к пересмотру.
В августе того же года «в Париже стоит ужасная жара. Я брожу по раскаленным добела улицам и не встречаю ни одного прохожего. Даже преступники в полном составе отправились к морю, оставив полицейских зевать и жаловаться на вынужденное бездействие. Единственное, что может принести им хоть какое-нибудь утешение, так это возможность дать заведомо неправильный ответ на вопрос английского туриста». Оскар Уайльд продолжал внимательно следить за процессом по английским газетам либо узнавая подробности от самого Эстерхази, с которым он встречался за ужином как раз накануне отъезда майора в Брюссель. Снова оставшись без денег, Уайльд вновь обратился к Смизерсу и Россу, которые и теперь не смогли ему отказать. Экстравагантный художник-еврей из Голландии Леонар Сарлюи стал его экспансивным и восторженным поклонником. На одном из приемов он познакомил Оскара Уайльда со своим юным протеже, который представился восторженному взору Уайльда боттичеллневским ангелом. В конце концов, чтобы скрыться от уличного пекла, он отправился с Ротенстайном и Кондером в Ла-Рош-Гюийон, расположенный в департаменте Сена-и-Уаза, где купался, катался на лодке и готовил издание пьесы «Как важно быть серьезным».
В начале сентября он вернулся в Париж и снова допоздна стал засиживаться с Морисом на террасах кафе, где писал бесконечные письма и принимал угощения от новых знакомых, присаживавшихся за его столик. В компании с Ла Женессом и Мореа он участвовал в открытии литературных вечеров в «Кализая» на Итальянском бульваре, там Гомес Карильо познакомил Уайльда с поэтом и консулом Никарагуа во Франции Рубеном Дарио: «На бульварах находился бар под названием „Кализая“. Карильо и его друг Эрнест Ла Женесс познакомили меня здесь с довольно крепким мужчиной с гладко выбритым лицом; мужчина чем-то напоминал аббата, отличался утонченными манерами и говорил с явным английским акцентом. То был великий и несчастный поэт Оскар Уайльд. Мне редко доводилось встречать более изысканного, образованного, более элегантного, любезного и рафинированного собеседника». А вечером — «Мулен-Руж» с Лотреком и Иветт Гильбер; затем возвращение в свой номер на Рю-де-Боз-Ар и сладостные размышления о юном корсиканце Джорджио — «любвеобильном фавне», которого Уайльд мечтал покорить. Он все реже встречался с Андре Жидом, хотя последний и подарил ему экземпляр своего «Саула», который намечали поставить на сцене Театра Антуана.
В сентябре 1898 года антидрейфусовская истерия достигла своего апогея после публикации в английской прессе «признаний» Эстерхази. Англия получила прекрасную возможность подлить масла в огонь и начала мощную кампанию против Франции. «Таймс», печатавшая ежедневную хронику основных событий, ограничилась следующим суждением по поводу выступления Жана Жореса: «Когда социалисты предпринимают попытку перейти от теории к практике, они становятся опасными и ирреалистичными». Но главное — пресса комментировала дела и поступки Эстерхази. Майор так писал из Брюсселя Роуленду Стронгу:
«Телеграфируйте мне в Брюссель в „Отель де Провиданс“, я могу о многом рассказать, и мне предстоит многое сделать. Я бы очень хотел, чтобы Вы помогли мне с моей книгой, а также нашли для меня возможность заработать несколько гиней за счет статей и интервью, но не за самую большую бомбу, которую я припас на потом. До сих пор я хранил молчание, подчиняясь приказам вышестоящих начальников. Но меня бросили, и я получил право защищаться. Я рассчитываю на Вас и Вашу газету, чью беспристрастность очень ценю». «Таймс» не отказала себе в удовольствии напечатать это письмо как вызов общественному мнению.
В начале сентября Эстерхази приехал в Лондон как раз в то самое время, когда французское правительство приняло решение о пересмотре дела. Он поселился у Роуленда Стронга на Сент-Джеймс-стрит и был готов к тому, чтобы рассказать о своей роли во всем этом загадочном деле и прояснить, был ли он шпионом и подделывал ли злополучное бордеро. Роуленд Стронг писал Оскару Уайльду, что Эстерхази был встревожен происходящими событиями и что сам Стронг посоветовал ему рассказать правду; Эстерхази якобы поведал ему, что из тысячи документов, составляющих досье, шестьсот поддельные, и майор был готов обнародовать имена тех, кто их в свое время сфабриковал. Стало очевидным, что новые откровения Эстерхази прольют на дело совершенно новый свет. Это отмечал сам Уайльд: «Здесь поднялся большой шум по поводу признаний, которые Эстерхази продал Стронгу. Он подвергается гневным нападкам со стороны своих бывших сослуживцев, а Роберт Шерард пишет ужасающей силы критические статьи». 26 сентября в беседе с владелицей «Обсервера» миссис Бир Эстерхази подтвердил то, в чем уже признался собственной жене и Уайльду:
«Бордеро было написано мной по приказу полковника Сандерра, которого уже нет в живых. Очень жаль, что полковник Сандерр и полковник Генри мертвы, так как они оба знали правду. Тем не менее остается возможность доказать, что именно я являюсь автором бордеро. Необходимость в подлоге была вызвана отсутствием материальных улик; все обстоятельства указывали на виновность Дрейфуса, поэтому потребовалось сфабриковать улику — именно это и повлияло на решение полковника Сандерра, эльзасца, как и сам Дрейфус, но отчаянного антисемита». За эту исповедь, опубликованную в «Обсервере» и подробно прокомментированную в «Таймс» от 3 октября 1898 года, Эстерхази получил пятьсот фунтов. «Дейли кроникл», в свою очередь, провела тщательный анализ этих признаний и пришла к заключению о виновности полковника Сандерра и полковника Генри. На следующий день «Таймс» опубликовала статью Роуленда Стронга, в которой последний подтвердил объяснения Эстерхази и высказал пожелание выслушать полковника Пикара, если только «Францией не правит сабля».
Парижские газеты «Фигаро», «Матен», «Тан» и «Орор», набросившиеся на эту исповедь, всячески усиливали нервное возбуждение, каждая в своем лагере. Ярость антидрейфусаров не знала границ; Анри Рошфор взялся за перо. Прежде всего ему показалось странным, что Эстерхази, оправданный в связи с отсутствием состава преступления, вдруг сам заявил перед зарубежными журналистами о своей виновности, которую до этого всячески отрицал. Рошфор задался вопросом, не пахнет ли здесь ста тысячами франков Синдиката и кто оплатил поездку Эстерхази и пребывание в Лондоне? 13 октября «Таймс» несколько колонок посвятила перечислению основных событий, связанных с делом, придав ему уже европейский размах и утверждая, что ни в Германии, ни в Италии никто не верит в виновность Дрейфуса. Кроме того, тон заявлений лорда Эскуита становился все тверже, когда он говорил об экспедиции Марша-на, которая подошла к стенам Фашоды. В довершение всего начали поговаривать о заговоре военных с целью свергнуть ревизионистское правительство: «Скандал по делу Дрейфуса сделал достоянием гласности тот факт, что дела во Франции обстоят совершенно невероятным образом». В конце концов пресса, уже не стесняясь, сравнила военный суд, вынесший приговор Дрейфусу, с судом инквизиции. В ноябре 1898 года «Меркюр де Франс» поместила на своих страницах французский перевод «Баллады Редингской тюрьмы», которая уже была опубликована в майском номере журнала; это дало возможность Жану Лоррену, посвятившему ей хвалебную статью, напомнить о несправедливом осуждении автора «Баллады» в той самой Англии, которая покрыла себя бесчестьем в Трансваале, уничтожая буров, и которая посадила в тюрьму Уайльда, вменив ему в вину порок, считающийся в этой же стране обычным делом.
В начале декабря Уайльд опять оказался в отчаянном положении. Он написал Андре Жиду, который только что прислал ему свои «Размышления о некоторых вопросах литературы и морали», душераздирающее письмо: «Мой дорогой друг, я очень Вам благодарен. Ваш сборник изречений — просто маленький шедевр эстетического достоинства, причем эта книга — первый подарок, который я получаю от Вас. Я очень этому рад и с огромным удовольствием перечитал ее снова. И вместе с тем я сейчас очень расстроен. Я давно ничего не получал из Лондона от моего издателя, который должен мне деньги, и поэтому прозябаю в полной нищете. Не знаю, можете ли Вы мне чем-нибудь помочь, но если бы Вы одолжили мне двести франков, то сделали бы меня вполне счастливым, так как на эти деньги я смог бы продержаться какое-то время. Видите, в какой степени трагедия моей жизни стала безобразной. Страдание можно, пожалуй даже необходимо, терпеть, но бедность, нищета — вот что страшно. Это пятнает душу». Андре Жида, не слишком расположенного рисковать двумя сотнями франков, тем не менее тронуло такое отчаяние, и он предложил Уайльду отправиться вместе в путешествие. Тем временем в Париж, как нельзя более кстати, приехал Фрэнк Харрис, который и взял на себя заботу о своем невыносимом друге. Каждый день он обедал и ужинал с Уайльдом у «Дюрана» или в таверне «Пуссэ», где Уайльд успел сделаться завсегдатаем, дал ему в долг несколько фунтов и решил увезти его на Лазурный Берег, где недавно купил отель в Монте-Карло. Об этом Уайльд написал Жиду: «Я благодарю Вас. В Париж только что приехал один из моих друзей, редактор лондонского „Субботнего обозрения“, он увозит меня с собой на два месяца в Канны. Может быть, там мне удастся найти свою душу. Надеюсь увидеться с Вами по возвращении».
Уайльд в очередной раз погрузился в мечты, полный радужных надежд. Когда он приедет в Ля Напуль, море, солнце, аромат цветов помогут ему написать шедевр! Вдали от парижской суматохи, от постыдных сидений на террасе кафе, жалоб хозяев гостиниц он мог наконец обрести здесь то, чего с таким нетерпением ждал, сидя в тюремной камере: «Природа, чьи ласковые дожди равно окропляют правых и неправых, найдет для меня пещеры в скалах, где я смогу укрыться, и сокровенные долины, где я смогу выплакаться без помех. Она усыплет звездами ночной небосвод, чтобы я мог бродить в темноте, не спотыкаясь, и завеет ветром мои следы, чтобы никто не нашел меня и не обидел».
Поселившись 16 декабря в «Отель де Бэн», он погрузился в это лирическое состояние, скрывавшее от него реальную жизнь. Он выехал в Ниццу, чтобы поаплодировать Саре Бернар в «Тоске» Викторьена Сарду, при этом его сопровождал новый наперсник: Гарольд Меллор. Когда спектакль закончился, Уайльд поспешил в усыпанную цветами гримерную, и они упали в объятья друг друга, целуясь и обливаясь слезами, короче говоря, они разыграли замечательную сцену: автор и его Саломея, от которой он был в таком восторге. «Я отправился повидаться с Сарой, и она поцеловала меня и заплакала, и я тоже заплакал, и весь вечер все было чудесно».
Однако у него не было больше средств, чтобы и дальше предаваться мечтам; реальная действительность давала о себе знать. Дней через двенадцать после приезда в Канны Фрэнк Харрис исчез, и Уайльд остался в гостинице, предоставленный самому себе. С этого дня началась бешеная гонка за юными рыбаками из Гольф-Жюан, у которых были красивые глаза, вьющиеся кудри, полное отсутствие морали и волшебные имена — Рафаэль и Фортюне. Оскар с грехом пополам расплатился за гостиницу и переехал в Ниццу к Гарольду Меллору и «малышу Жоржу», которого он соблазнил еще в Париже и который занимался тем, что торговал собой на побережье. Отдыхавшие в Ницце англичане тыкали в него пальцем, а он, в сопровождении Меллора и Эоло, продолжал метаться между портом, кабаре и набережной. Безусловно, именно нынешнее его безрассудное поведение удерживало Харриса в Монте-Карло — последнему оставалось лишь радоваться тому, что за неимением денег Уайльд вынужден был жить пока в Ницце.
В январе 1899 года, когда от Харриса все еще не было никаких известий, а его отель уже находился на грани банкротства, Уайльд работал над гранками пьесы «Как важно быть серьезным», за что издатель Смизерс переслал ему гонорар в размере пятнадцати фунтов. Книга вышла в феврале с посвящением «Роберту Болдуину Россу в знак глубочайшей признательности». Он послал Россу один из двенадцати экземпляров, отпечатанных на японской бумаге, сделав на нем следующую дарственную надпись: «Воплощению Совершенной Дружбы: Робби, имя которого я начертал на вратах этой скромной пьесы». Тем временем помимо того, что хозяин гостиницы, все более и более хмурясь, ежедневно подавал Уайльду счет, англичане, жившие в отеле, не пожелали сидеть с ним за одним столом. Он опять погрузился в отчаяние, из которого его вытащил неутомимый Фрэнк Харрис, приславший денег, чтобы он мог расплатиться за продолжительное пребывание в Ницце; это, однако, не помешало Уайльду вести тщательный подсчет тех сумм, в которых Харрис ему когда-либо отказал. Наконец он смог уехать из Ниццы, подальше от ужасных англичан. 26 февраля он отправился в Швейцарию, где его ожидал Гарольд Меллор в своей роскошной вилле, расположенной в Глане в кантоне Во на берегу Женевского озера. По пути в Швейцарию Уайльд сделал остановку в Генуе на могиле Констанс, с трудом сдерживая чувства, которыми, сразу по прибытии, поделился с Робби: «Я был потрясен до глубины души — но меня не оставляло сознание тщеты всяческих сожалений. Ничто нельзя было бы изменить, и жизнь — страшная вещь».
Забыв на время о материальных проблемах, он встретился с Эоло и молодым итальянским актером Дидако, с которым познакомился в Генуе и которого считал похожим на Гамлета, пребывающего в меланхолии. В бокалах пенилось шампанское, прогулки по берегам Женевского озера были полны романтических воспоминаний, а в свободное от развлечений время Уайльд работал над версткой «Идеального мужа» для Смизерса или читал Мопассана. Усиленные Шерардом и Стронгом, до него докатывались отголоски расследования, проводимого в связи с требованием о пересмотре дела Дрейфуса — в обстановке невероятного накала страстей. Короче, Уайльд наслаждался несколькими неделями покоя. Правда, он не строил иллюзий относительно кратковременности этого затишья, и ему быстро приелось плаксивое малодушие хозяина: «Он мне совсем не нравится, а швейцарцы так уродливы на вид, что я от них целыми днями пребываю в меланхолии».
По правде говоря, он устал от бесцельного существования, монотонности окружающего бытия, никчемности озера, Монблана и Гарольда Меллора. Безусловно, вилла с окнами, выходящими на безмолвное озеро, располагала к покою и комфорту, и этот комфорт, несомненно, был Уайльду по вкусу, но где же Тернер, Росс, Бози, юный Морис? Как ему быть без литературных споров с Фенеоном, Ла Женессом, Жидом? Он уже мечтал уехать отсюда, но даже на это у него не было денег.
Именно в это время, а именно 13 марта 1899 года, умер его брат Уилли. И теперь он внезапно стал наследником имения в Мойтуре. Если сразу продать его, то можно было выручить три или четыре тысячи фунтов, в счет которых Оскар немедленно одолжил сто фунтов, чтобы уехать из Глана. Сначала он направился в Женеву, где провел несколько дней с еще одним итальянским актером, Дидако7. 2 апреля он переехал в Геную, где в восхитительной портовой таверне, пользовавшейся дурной репутацией, его поджидал прелестный юноша — Эдуардо Ролла. После монотонных недель, проведенных в Швейцарии, Уайльд вернулся к совсем другой жизни, полной удовольствий и возбуждения: он ездил по портовым городам Италии — Санта-Маргерита, Рапалло, Сан-Фруктуозо, где, кстати, его вновь и вновь посещала мысль уйти в монастырь. «После холодной и заснеженной девственности Швейцарских Альп я истомился по пурпурным цветам страсти, ковром устилающим итальянское лето». Он на несколько дней задержался в Генуе, затем добрался по побережью до Портофино, где его настигла дурная весть: оказалось, он не мог продать Мойтуру, так как кредиторы грозились наложить арест на деньги, которые будут выручены от этой сделки. В тот же миг Италия, ее порты и рыбаки утратили все свое очарование. Уайльд внезапно понял, что остался совсем без средств и что ему очень не хватает Робби. Он написал ему о своей привязанности, о том, как он несчастен и о том, как скучает. Робби немедленно приехал и увез Уайльда в Париж.
15 мая он остановился в «Отель де ля Нева» на улице Монтини, вернувшись к привычному образу жизни: бесконечные кафе и рестораны — дешевые, если платит он сам, дорогие, если его приглашают. Он был в восторге от «Сада пыток» Октава Мирбо, который писал ему, став академиком: «Как это чудовищно; ты просто ощущаешь, как трепещет садистская радость страдания».
Уайльд оказался замешанным в еще одно громкое политическое событие, происходившее в эти дни. 2 июня он случайно смешался с толпой манифестантов перед зданием Военного клуба на площади Сент-Огюстен. Манифестанты выступали в поддержку майора Маршана, героя Фашоды, преданного французским правительством, которое отозвало его из Судана, выполняя требование англичан. Ряд политических деятелей хотели бы видеть его новым генералом Буланже8, восставшим против слабого правительства, чтобы в дальнейшем поднять престиж армии, серьезно пошатнувшийся в связи с последними событиями, связанными с процессом по делу Дрейфуса. Кассационный суд отменил приговор 1894 года и направил дело на новое рассмотрение военного совета в городе Ренн. Уайльд провел несколько счастливых недель в обществе Робби и «малыша Мориса». Ему пришло письмо от актера Кирле Беллью с предложением о сотрудничестве в написании пьесы, которую Беллью хотел посвятить Бруммеллу9; Уайльд порадовался и выходу седьмого тиража «Баллады», и появлению на книжных прилавках «Идеального мужа», которого он посвятил на этот раз Фрэнку Харрису «в знак скромного свидетельства выдающихся качеств художника и рыцарской доблести в отношении друзей». В Марлотте он сблизился с небольшой группой почитателей и друзей художника Армана Пуэна и ожидал здесь чека от Смизерса, после чего он смог бы отправиться в Гавр.
18 июля газета «Матэн» опубликовала признания Эстерхази с обвинениями в адрес генерального штаба; фактически он лишь повторил заявления, сделанные в газете «Обсервер», на которую, кстати, подал в суд. Эти события лишний раз подтвердили достоверность показаний Роуленда Стронга на заседании кассационного суда, когда он рассказал о своих беседах с Эстерхази, за которыми последовала публикация в «Обсервере». Для Уайльда дело Дрейфуса еще не закончилось. Когда его включили в список свидетелей защиты на заседании реннского военного совета в августе 1899 года, Эстерхази опроверг его показания, а главное, дискредитировал его и Стронга, сделав письменное заявление; «Я хочу подчеркнуть, что интимными друзьями мистера Стронга, с которыми он имеет постоянную связь, являются два очень умных человека — лорд Альфред Дуглас и сэр (sic) Оскар Уайльд. Несмотря на то, что мне поставили в вину все мирские преступления и пороки, я все-таки еще не докатился до того, чтобы получать удовольствие от подобных отношений; мои встречи с ними носили эпизодический характер, и все заявления Стронга о каких-то якобы сделанных мною признаниях — совершенная ложь. Он специально создал целый синдикат, чтобы использовать меня в своих целях…»
В соответствии с приговором, вынесенным 9 сентября, Дрейфус был признан виновным со смягчающими обстоятельствами, и дело объявлено закрытым, по крайней мере в том, что касается интереса, который уделял ему Уайльд; известие о том, что 19 сентября Дрейфус помилован решением президента Республики, Уайльд встретил с насмешливой иронией.
Прошли годы, утихли страсти, и Уайльд снова встретился с лордом Альфредом Дугласом, как встречаются с прежней любовью, пламя которой угасло навсегда. Однажды сентябрьским вечером они вместе поужинали в кафе «Мир». За соседним столиком случайно оказалась знакомая актриса Ада Реган и ее импресарио Огастин Дэйли с женой. Ада Реган подняла на Уайльда глаза, и он ответил ей широкой улыбкой. Чувствуя себя крайне неловко, она пришла в замешательство, не решаясь пригласить Уайльда за свой стол из опасения, что ее импресарио не одобрит этот поступок. Но решение все же было принято, и Уайльд закончил вечер с ними, обретя на эти несколько часов свой прежний блеск, став даже более обаятельным, чем всегда, и обсуждая с американцем-импресарио проекты разнообразных театральных постановок. Проектам этим не суждено было осуществиться, поскольку на следующий день Дэйли умер. Уайльд, словно ему недоставало своих проблем, счел себя обязанным поддержать миссис Дэйли и Аду Реган и помочь им справиться с горем, которое обрушилось на них с этой скоропостижной смертью.
Через несколько дней Оскар Уайльд сидел в одиночестве на террасе кафе на бульваре; неожиданно он увидел идущего по улице Андре Жида. Он окликнул его. Слегка смущенный тем, что его могут увидеть в компрометирующем обществе, Жид уселся так, чтобы быть к улице спиной. Уайльд крайне огорчился, заметив, что его стыдятся даже близкие друзья: «Да сядьте же поближе, я сейчас так одинок». Какое-то мгновение Жид колебался, затем пересел ближе к Уайльду. Разговор не клеился, и очень скоро Жид встал; тогда Уайльд жалобно признался, что остался без средств к существованию. Жид снова опустился на стул и начал вполголоса отчитывать Уайльда, упрекая его в праздности.
— Ну зачем вы так быстро уехали из Берневаля, ведь было решено, что вы останетесь там подольше. Я не должен вас упрекать, но…
— Не следует упрекать того, кто получил такой удар!
В другой раз, как-то вечером, Стюарт Меррилл познакомил его с двумя новыми почитателями — захудалыми поэтами-символистами Фердинандом Эрольдом и Микаэлем Роба. Оскар присоединился к ним, чтобы попасть в одно кафе на Монмартре, где в этот вечер Жеан Риктюс, которому Уайльд послал экземпляр своей «Баллады», читал стихи. Вот как Уайльд сам рассказывал об этом литературном вечере, одном из последних в своей жизни: «Меня принимали с самыми большими почестями и представили мне всех присутствовавших. Мне не разрешили платить за пиво, которое я выпил, а слуга, необыкновенно красивый мальчик, выпросил у меня автограф в свой альбом, в котором, по его словам, уже были собраны автографы пятидесяти трех поэтов и двух убийц. Я с удовольствием выполнил его просьбу». Уайльд был неисправим: он усадил юношу за свой столик и пригласил его к себе в гостиницу на следующий день.
Несколькими днями позже настала очередь Эрнеста Даусона, еще более опустившегося, чем прежде, пригласить Уайльда в кафе. Роуленд Стронг отказался идти с ними под тем предлогом, что Даусон дружил с Шерардом, а тот был ярым дрейфусаром. Уайльд сокрушался по поводу этих мелких ссор, которые рассеивали и без того немногочисленную группу его друзей, еще больше омрачая унылый пейзаж, представавший взору мэтра, когда он оставался один в четырех стенах своего номера в отеле «Эльзас».
Бози Дуглас, внезапно и чудесным образом разбогатевший, пытался вывести Уайльда из оцепенения, пригласив пообедать у «Мэра»: бургундское, шампанское и коньяк текли рекой. Затем они вдвоем уехали в Шенневьер-сюр-Марн и присоединились к компании Армана Пуэна, в то время как молодые «пантеры» взяли себе в спутники русского подростка, которого они называли Мальчик Перовински, и некоего таинственного «Первого Консула», обнаруженного на бульварах в объятьях «Эдмона де Гонкура», недавно вышедшего из тюрьмы. В это же время Оскар послал надписанные экземпляры «Идеального мужа», который вот уже несколько недель продавался в Лондоне, Лотреку, Жиду, Мерриллу, Ла Женессу, Даврэ, Фенеону и Анри Боеру.
В октябре 1899 года, в полном изнеможении, Уайльд вновь появился в отеле «Эльзас». Причем накануне он был вынужден бежать из другого отеля, где жил какое-то время по возвращении из Трувилля, оставив там в залог все свои вещи. И опять его выручил Фрэнк Харрис, выслав двадцать фунтов, а добряк Дюпуарье отправился вызволять пожитки своего постояльца. В письме к Эме Лоутер, к которой лет десять назад Уайльд был, кажется, неравнодушен, он писал: «Недавняя встреча с Вами, столь красивой и непредсказуемой, доставила мне огромную радость; Ваша дружба подобна цветку на терновом венке, в который превратилась моя жизнь».
Наступил январь 1900 года. Оскар Уайльд все больше отчаивался от своего убогого жилья, отдавая себе при этом отчет в том, что живет здесь практически задаром, если, конечно, можно назвать жизнью жалкое существование посреди того праздника жизни, каким был Париж на рубеже веков — Париж Брюана, «Мулен-Руж» и тех самых «господ», чей портрет нарисовал Франсис Карко: «Вырядившись в чрезмерно облегающие костюмы и вызывающе выставив зады, напомаженные, накрашенные, потряхивающие искусственными завитками волос, они собираются в кафе, открытом только по ночам в доме 122 по бульвару Рошешуар, и считают себя сливками особого общества. Это место встреч самых любопытных представителей нашей эпохи. Весь Париж стремится попасть в „Лунный свет“». Уайльд все перебирался из одного кафе в другое, нередко подолгу засиживаясь под дождем на открытой террасе «Колизея», в ожидании, что появится кто-нибудь из знакомых, кто мог бы составить ему компанию и по доброте душевной заплатить по его счету. Изредка ему удавалось стать прежним, например, за ужином с Фрэнком Харрисом или в окружении писателей, собиравшихся послушать его занимательные истории.
Эрнест Ла Женесс оставил достоверное описание плачевного конца «мастера изящной словесности»: «Если вам доводилось встречать на бульварах этого неторопливого, излишне угрюмого господина, являвшего собой пример полной деградации, то вы не могли не отдавать себе отчет в том, что он один подобен нескончаемой череде угрызений совести». Среди тех, кто приходил на помощь, был Жан-Жак Рено, восторгавшийся им несколько лет назад. Рено так вспоминал об одной из последних встреч с Оскаром Уайльдом: «Как-то вечером в одном из баров на Итальянском бульваре какой-то бедно одетый человек попросил у меня разрешения сесть за соседний столик. Это был мистер Уайльд, вернее трагическая и безжалостная пародия на него самого. От прежнего Уайльда остался лишь его музыкальный голос да по-детски огромные голубые глаза».
Неужели это конец? Можно ли было надеяться, что таким существованием он искупил безумства прошлой жизни? Париж конца зимы 1900 года стал для него местом ожидания смерти; он знал, что смерть физическая уже предопределена смертью его творческого гения; он умирал от скуки и одиночества, в котором его оставили друзья, понимая, что бессильны ему помочь. Его уже стали выгонять из баров, если он приходил туда один. Время от времени он еще находил в себе силы импровизировать для Анри Бека, Поля Фора, Жана де Митти, но уже ни на что не надеялся и мечтал лишь об одном — согреться воспоминаниями о своих прежних любовных чувствах. Все тот же Жан де Митти встретил его как-то в «Чэтеме»: «За одним из столиков сидел тучный человек с затуманенным взором, обвисшими щеками, пузатый и грязный. Неужели это был тот самый, всегда такой безупречно элегантный Уайльд? Чтобы убедиться в этом, я подошел поближе к одинокому и угрюмому господину, приподнял шляпу и прочитал по-английски первые строфы „Баллады“. Внезапно мужчина встал, бросил на столик какую-то мелочь, взглянул на меня в упор и разрыдался». Он отправился на прогулку по Сене с Анной де Бремонт и сделал вид, что принимает ее советы, ничем не отличавшиеся от тех, которые ему приходилось выслушивать в течение многих месяцев и которые с каждым разом нагоняли на него все большую тоску.
— Вам необходимо взять себя в руки, выйти из оцепенения, начать, наконец, писать театральные пьесы или те же рассказы, которые вы так бездумно расточаете в беседах с друзьями.
Уайльд отвечал удрученно:
— Я не могу больше писать, во мне умерло честолюбие. Я мог говорить о жизни, не зная ее. Теперь же, когда я узнал о ней все, мне нечего больше сказать.
Тем временем французский перевод «Баллады» пользовался неизменным успехом. Февральский номер журнала «Перо» поместил исключительно благожелательную статью: «В своей „Балладе“ м-р Оскар Уайльд отошел от того парадоксального, уверенного и так любимого им самим тона, который нередко вызывал раздражение в его предыдущих произведениях. Здесь мы обнаруживаем обнаженное чувство того, насколько жизнь полна фатальности. Это боль, вызывающая жалость; все произведение пропитано духом сострадания. Человек предстает во всей своей человечности, а душа раскрывает всю свою красоту». Трудно сказать, читал ли Уайльд эту статью, появившуюся вскоре после того, как он узнал о смерти Эрнеста Даусона, а сам мучился от нарыва на горле, который поражал и его душу, о чем он писал Россу — его душу! или то, что от нее осталось в той медленной скорби тех немногих месяцев, которыми ограничивался его горизонт. Если иногда он еще мог блеснуть остроумием у «Прокопа» или у «Франсуа I», то, оставаясь наедине с Ла Женессом или с Мерриллом, признавался, что его сердце переполнено грустью и что если иногда ему удается забыть о своем отчаянии, то оно неизменно возвращается, стоит ему переступить порог гостиничного номера, и он чувствует себя потерпевшим кораблекрушение мореплавателем, выброшенным на песок.
Но внезапно он исцелился! Смизерс прислал несколько фунтов за «Идеального мужа», а Фрэнк Харрис и Росс оплатили неотложные долги. Но главное, снова появился Гарольд Меллор и пригласил Уайльда приехать к нему в Рим всего за пятьдесят фунтов. 2 апреля он был уже в Палермо, где его встретил Гарольд Меллор, все такой же скучный, но для Уайльда это уже не имело значения после всего того, через что он прошел. Он провел в Палермо неделю, как раз столько, сколько было необходимо, чтобы вновь почувствовать себя прерафаэлитом. Оттуда он на три дня отправился в Неаполь. А на Пасху, 15 апреля, в обстановке всеобщего подъема, он добрался до Рима. Оказавшись среди толпы коленопреклоненных верующих, он получил благословение проехавшего по улице папы Льва XIII: «Во всем своем великолепии он проплыл мимо меня на носилках: не существо из плоти и крови, а чистая белая душа, облаченная в белое, святой и художник в одном лице». Затем, с присущей ему предупредительностью, он написал Дюпуарье: «Мой дорогой хозяин, я не вернусь до первого июня, и, следовательно, (sic) Вы можете сдать мой номер; не имеет смысла держать его, так как в мае у Вас наверняка будет много туристов, которые приедут на Выставку» — несколько наивное заявление, поскольку «дорогой хозяин» уже несколько месяцев разрешал ему жить у себя в кредит. Какое-то время спустя Уайльд, сильно отравившийся мидиями, внезапно быстро излечивается — может быть, благодаря благословению? — и тут же покидает юного Армандо, составлявшего ему компанию… ибо у него появляется новый спутник, Арнольдо. На следующий день, сидя, по обычаю, на террасе «Кафе Насьональ», он с поклоном приветствовал проехавшего мимо короля Италии Умберто I. При этом Уайльд заметил молодым студентам, чье общество, с тех пор как они узнали Уайльда, доставляло ему удовольствие, что его приветствие адресовано скорее монархии, нежели монарху, проявляющему враждебность по отношению к Ватикану: в то время папу даже называли «узником Ватикана». Кстати, именно среди этих молодых людей, замиравших в экстазе от каждого его слова, он и нашел малыша Омеро, который заполнил пустоту, образовавшуюся после разлуки с Армандо. Уайльд еще несколько раз посетил Ватикан, виллу Боргезе, сфотографировался у подножия статуи Марка Аврелия — он был великолепен, в элегантном темном костюме, небрежно опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости — и ему вновь пора было возвращаться в Париж, в отель «Эльзас», в бездну, на дне которой повергались в прах химеры, которых он так и не сумел приручить. Грусть об утраченном прошлом и ускользающем будущем он выразил в следующих строках: «И вместе с тем бесконечно много пурпурных часов так и не удается вырвать из объятий неторопливой и зыбкой серости, называемой временем! Поцелуи пьянят мои губы, а пыл насыщает тело».
На обратном пути Уайльд остановился на десять дней в Глане, а в последних числах мая он уже ужинал в Париже в обществе Фрэнка Харриса и Бози, чей последний и ужасающий приступ ярости вновь поверг его в отчаяние. Он покинул кафе вне себя от стыда и отвращения.
Дуглас окончательно превратился в неблагодарного и неверного Иуду, бросившего того, кому поклонялся, пока не разразилась катастрофа.
Что же до маркиза Куинсберри, то 31 января 1900 года он скончался в возрасте пятидесяти пяти лет, оставив после себя состояние, оценивавшееся в триста семь тысяч фунтов стерлингов, которые были заработаны на организации боксерских поединков, так как от своего отца, восьмого маркиза, он унаследовал только одну тысячу шестьсот пятьдесят семь фунтов. Бози получил в свое распоряжение большую часть этого состояния, если верить тому, что он сам писал в «Воспоминаниях»: «Перед смертью отец послал за мной; между нами состоялось полное примирение, и он оставил мне абсолютно все, что было возможно мне завещать из своего довольно значительного состояния». Тем не менее, несмотря на свои неоднократные заверения, он ограничился в отношении Уайльда лишь несколькими приглашениями на ужин и кое-какими незначительными субсидиями, хотя, конечно, должен был сдержать слово чести и возместить Уайльду ту тысячу фунтов, которую его семья обязалась уплатить, чтобы покрыть судебные издержки. Кстати, вспышка гнева, случившаяся у него за последним совместным ужином, произошла именно после напоминания об этом долге чести, который, по его словам, настоящий джентльмен никогда не возвращает.
Возбуждение от поездки в Рим спало, Уайльд вновь принялся скитаться по Парижу, ужины у «Мэра» сменялись бесконечным ожиданием на террасах кафе. Он продал Фрэнку Харрису план пьесы «Мистер и миссис Давентри», утаив от него, что права на нее уже приобрели сначала американские актрисы Браун-Поттер и Ада Реган, затем Гораций Седжер и Луис Нетерсол, а потом еще два театральных директора и, наконец, Леонард Смизерс.
В июне 1900 года Уайльд посетил Всемирную выставку, открытие которой состоялось 14 апреля. На стенде Эдисона он записал на один из первых фонографов три последние строфы «Баллады Редингской тюрьмы»10. Его пригласили на банкет, устраиваемый в честь Родена, и он с большим удовольствием встретился вновь с великим скульптором, которого считал величайшим поэтом Франции, полностью «затмившим Виктора Гюго». Ни с того ни с сего Джордж Александер вдруг предложил Уайльду двадцать фунтов ежемесячно за права на «Веер леди Уиндермир» и «Как важно быть серьезным»; однако и этого было уже недостаточно для того, чтобы помешать неотвратимому погружению в манящее небытие. К тому же все обладатели прав на «Мистера и миссис Давентри» по очереди предъявили ему свои претензии. Оскару Уайльду было уже сорок пять лет, он написал «Портрет Дориана Грея», познал небывалый успех благодаря четырем театральным пьесам, вдохнул последние искры своего гения в «De Profundis» и «Балладу Редингской тюрьмы»; экстравагантная жизнь довела его до того, что, подобно нищему бродяге, он вынужден был клянчить деньги у тех, кто еще продолжал окружать его своей заботой.
Июль 1900 года. Уайльд был очень болен и страдал от воспаления уха, которое стало следствием давнего падения в тюремной часовне. Когда дела пошли на поправку, он уехал для восстановления сил в Швейцарию и вернулся в Париж только в сентябре, как всегда, весь в долгах, преследуемый своим «дорогим хозяином» и снова больной — на руках у «малыша Мориса». 10 октября ему сделали операцию, но он не мог заплатить ни хирургу, ни сиделке, чей уход ему был необходим.
16 октября Уайльд в постели отметил свое сорокашестилетие. К его физическим страданиям добавились переживания по поводу той пьесы, которую собирался ставить Харрис, вынуждая Уайльда вернуть деньги всем другим владельцам авторских прав. 25 октября на сцене театра «Роял» поднялся занавес и появилась исполнительница главной роли в пьесе «Мистер и миссис Давентри» — миссис Патрик Кэмпбелл — одновременно нимфа и жертва Бернарда Шоу.
А Оскар Уайльд все хворал в отеле «Эльзас» в своем маленьком номере, стены которого были оклеены такими невзрачными обоями. По полу были разбросаны книги и одежда. И все же ему удалось получить последнюю улыбку еще одной женщины — давнишней знакомой, баронессы Деланд, которую он впервые увидел в костюме Боттичелли, согласно тогдашней моде, и которую разыскал в редакции одной из газет, где она вела светскую хронику. Она в очередной раз уступила его обаянию и поддалась колдовской силе волшебного голоса. Баронесса позволила Уайльду увлечь себя в ресторан «Гранд Ю» на улице Ле Пеллетье, правда, обратив внимание на некоторый беспорядок в одежде Уайльда, так что умная женщина без труда догадалась, что платить по счету придется ей. Но какое это имело значение — Уайльд был ослепителен, и вечер закончился прогулкой в Булонском лесу, во время которой Уайльд говорил: «Я бродяга. Нынешний век запомнит двух бродяг-литераторов: Верлена и меня». Его нынешнее положение и в самом деле чем-то напоминало то, в котором оказался некогда Верлен.
На следующий день Уайльд встретил Харриса, зашедшего проведать больного, взглядом, полным боли; улыбка, озарявшая его лицо накануне, исчезла. Все разговоры сводились к богатею Бози, к деньгам, которые он надеялся получить за постановку «Мистера и миссис Давентри», и к мучениям, перенесенным в тюрьме. Он приходил в сильное возбуждение при упоминании о Бози, вспоминал о его изменах и неожиданно, подняв на Харриса полные слез глаза, признался: «Я заблудился в этой жизни; прохожие презирают меня, а человек, которого я любил, бичует своим безразличием и осыпает ужасными оскорблениями (…) Мне некуда дальше идти. Для меня все кончено! Остается лишь уповать на скорый конец». И мольба его была услышана.
В самом начале ноября Роберт Росс приехал в Париж; его очень встревожило состояние Уайльда, который страдал от сильных болей в ухе. Тем не менее Уайльд встал, чтобы поприветствовать Робби, и они вместе отправились на прогулку в Булонский лес. Оскар все вспоминал предательство Бози, свои долги, говорил о глупости доктора Таккера, который запретил ему употреблять спиртное. Он рассказал, что прошлой ночью ему приснилось, будто он сидел за одним столом с мертвецами, на что присоединившийся к ним на прогулке Тернер пошутил: «Милый мой Оскар, ты наверняка был жизнью и душой того общества», чем вызвал у него улыбку.
12 ноября Росс должен был ехать к матери на Лазурный Берег. Он оставил Уайльда на попечение Тернера и уехал с ощущением, что больше никогда его не увидит.
27 ноября Росс получил от Реджи письмо с просьбой немедленно вернуться в Париж. В ухе обнаружился абсцесс, инфекция начала распространяться на весь организм, и все это усугублялось самоубийственным злоупотреблением шампанским.
29 ноября Росс прибыл на Лионский вокзал и спешно направился в отель «Эльзас». Оскар Уайльд был уже безнадежен, он очень исхудал, был мертвенно бледен и дышал тяжело и прерывисто. Он находился в сознании и тщетно пытался что-то сказать. Росс послал за пастором, отцом Катбертом, который совершил соборование; затем к умирающему пригласили сиделку. Тернер и Росс заняли номер этажом выше. 30 ноября в половине шестого утра их разбудили. У Уайльда началась агония, и их взгляду предстало ужасающее зрелище. В два часа десять минут пополудни11 тело сотрясла последняя конвульсия, и Оскар Уайльд навсегда покинул сцену. Ему было сорок шесть лет. Как только это известие разнеслось по Парижу, гостиницу заполонили толпы журналистов и кредиторов, а простодушный Дюпуарье, совсем потеряв голову, еще больше усугубил ситуацию, попытавшись сохранить в тайне имя Уайльда. Дело дошло до того, что судебно-медицинский эксперт начал выспрашивать, не было ли здесь самоубийства или убийства. В конце концов разрешение на похороны было получено. Проститься с Уайльдом собрались самые преданные друзья: Харрис, Карлос Блэккер, Стюарт Меррилл, Жеан Риктюс, Анри Даврэ… все те, кто никогда не переставал восхищаться им и любить его. Перед тем как тело положили в гроб, Морис Гилберт сфотографировал усопшего.
Похороны состоялись в понедельник в 9 часов утра. За катафалком шли Дуглас, приехавший накануне, Тернер, Росс, Дюпуарье и Морис Гилберт. Около церкви Сен-Жермен-де-Пре шествие остановилось, и один из викариев отслужил заупокойную службу, на которой присутствовало около пятидесяти человек, среди которых были Поль Фор, Сар Луи, Ла Женесс, Жеан Риктюс, Лоранс Усман… Верный Дюпуарье возложил венок с надписью «Моему постояльцу», вслед за ним цветы возложили Альфред Дуглас, Мор Эйди, Адела Шустер, «Меркюр де Франс», Гарольд Меллор. Затем катафалк направился к кладбищу в Баньо, где стараниями Робби тело Уайльда подлежало захоронению в негашеной извести, дабы свершилось последнее пророчество его «Баллады»:
Есть возле Рединга тюрьма,
А в ней позорный ров,
Там труп, завернутый людьми
В пылающий покров,
Не осеняет благодать
Заупокойных слов.
Пускай до страшного суда
Лежит спокойно Он,
Пусть не ворвется скорбный стон
В Его последний сон, —
Убил возлюбленную Он,
И потому казнен12.
Примечания
1 Самая известная романтическая поэма Колриджа, вышедшая в 1798 году.
2 Обри Бердслей скончался 16 марта 1898 года в возрасте двадцати двух лет. (Прим. пер.)
3 От французского «florifere» — цветоносный. (Прим. пер.)
4 Альфред Жарри (1873–1907), французский писатель, создатель персонажа Юбю, героя ряда его произведений; предтеча сюрреализма. (Прим. пер.)
5 По этому адресу расположено Общество Оскара Уайльда под председательством Ее Королевского Высочества принцессы Марии Пии Савойской, в котором принимают почитателей писателя.
6 Андре Антуан (1858–1943), французский актер и режиссер, основавший в 1887 году Свободный театр, пропагандист эстетики натурализма. (Прим. пер.)
7 Так в тексте. (Прим. пер.)
8 Жорж Буланже (1837–1891), военный министр Франции в 1886— 87 гг., пользовался большой популярностью, позже собрал вокруг себя военачальников, недовольных режимом, но, триумфально избранный в Париже, не решился на государственный переворот (1889); под угрозой ареста бежал в Бельгию, где покончил с собой на могиле своей любовницы. (Прим. пер.)
9 Джордж Бруммелл (1778–1840), английский денди, прозванный «Королем моды». (Прим. пер.)
10 Эта запись сохранилась и находится в коллекции Общества Оскара Уайльда.
11 В своем письме к Мору Эйди от 14 декабря 1900 года Роберт Росс писал, что Оскар Уайльд «отошел в час пятьдесят пополудни». (Прим. пер.)
12 Перевод Н. Воронель.
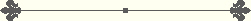
При заимствовании материалов с сайта активная ссылка на источник обязательна.
© 2016—2026 "Оскар Уайльд"