
Оскар Уайльд

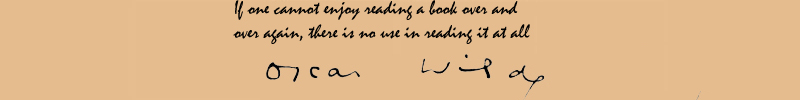
Жак де Ланглад. Неспасающая красота
Длинный шлейф сплетни тянулся за Оскаром Уайльдом при жизни, и даже посмертно сплетня не оставила его в покое.
Стараниями врагов и просто жадной до пересудов черни имя Уайльда стало своего рода символом порочности. Преодолеть инерцию подобного отождествления было непросто и людям непредвзятым, к тому же не обделенным художественным слухом. Давала себя почувствовать магия укоренившегося мифа. Перед нею отступали, оказываясь беспомощными, и объективность, и такт.
Вот лишь один из многих примеров этой невольной несправедливости. В романе Ивана Шмелева «Иностранец» — он писался слабеющей старческой рукой и не был завершен — герою, бывшему русскому офицеру, из-за легочного ранения, полученного еще на галицийском фронте, приходится ехать в горный санаторий в Пиренеях. Там собралось общество бездельников, поглощенных бриджем, флиртом и синема, где показывают мелодрамы с нескромными кадрами. Под вечер в курзале иной раз заходит разговор об искусстве, и это особенно невыносимо для бывшего капитана Виктора Хатунцева. Он боготворит Чехова, испытывает трепет над строками Шелли и Эдгара По. А «эти прокисшие сливки континента и островов», ничего в жизни не читавшие, смеют с апломбом толковать о поэзии и — подумать только! — Шелли, «чистейшего» Шелли «сравнивают… с Оскаром Уайльдом!»
Кощунство для Хатунцева не в том, что сопоставляют несоразмерные таланты. Еще ужаснее, что в один ряд попадают взаимоисключающие нравственные величины.
В своем возмущении персонаж Шмелева вполне типичен. И не только для описываемого времени, 20-х годов. Он остался бы типичен и сегодня.
На парижском кладбище Пер-Лашез, по пути к могиле Эдит Пиаф, туристов непременно проводят мимо покрывшегося мхом камня. Группа останавливается, гид поясняет, что тут обрел последнее упокоение нашумевший английский писатель, который возбуждал много пересудов своей беспутной жизнью и был предан суду, потому что оскорблял правила нравственности. О том, что Уайльд написал, не поминается ни словом. И незачем. Ведь публику интересует связанный с Уайльдом скандал, а не его творчество.
Тихо жужжат магнитофоны, стрекочут кинокамеры, вспыхивают блицы. Легко вообразить, как, вернувшись домой, эти американцы и японцы будут слово в слово повторять рассказ экскурсовода и демонстрировать слайды. Попытайтесь переломить изустно создаваемую репутацию — напрасный труд. «Оскар Уайльд? А, это тот англичанин, который соблазнял мальчиков из хороших семей».
В книге Жака де Ланглада приведены многочисленные примеры такого рода оскорбительных выпадов против Уайльда и прямой клеветы на него, которую пытались закамуфлировать сомнительным остроумием. Никому, конечно, не было дела до истинных побуждений, которые им руководили. Никто — или почти никто — не воспринял бы всерьез те потрясающие признания, которые содержатся в приведенном у Ланглада письме Уайльда одному из друзей, написанном уже после тюрьмы: «Любовь, зовущая, призывающая с распростертыми объятиями… ну кто бы устоял перед таким соблазном? Я не мог… мне было так одиноко, я так ненавижу одиночество».
Куда соблазнительнее было обратить все случившееся в скандал, а затем посостязаться в зубоскальстве, сочиняя водевили под броскими названиями «Закат Оскара» или «Опасности свиданий тет-а-тет с эстетом». Самое печальное, что в суждениях об Уайльде примерно такие же ноты прозвучали и у тех, кто очень хорошо знал: тут не фарс, а трагедия. Да к тому же сопровождаемая неистовством лондонских обывателей, которые рвали на куски фотографии писателя, выставленные в витринах книжных лавок.
Откровенное недоброжелательство к Уайльду чувствуется даже у Альбера Камю, замечательного французского писателя и философа, лауреата Нобелевской премии. Никто не упрекнет его в узости взглядов и понятий. И тем не менее в эссе, посвященном Уайльду, Камю не нашел иных слов, кроме тех, которые скорее подошли бы для прокурорской речи. На взгляд Камю, ничто не извиняет мимолетно прославившегося фланера, модника и себялюбца, который наивно верил, будто, дразня мещан подчеркнутой странностью своего поведения, можно всерьез поколебать пошлые понятия и окаменевшие устои.
А ведь это Камю, мыслитель, никогда не соглашавшийся с догмами и возвеличивший свободу выбора духовной позиции — вопреки мнениям, которым придан статус непреложности.
Чего же ожидать от остальных?
Правда, среди остальных были биографы строгие и добросовестные, со всем тщанием восстановившие цепочку больших и малых событий, из которых состоит жизнь Уайльда. Был такой мастер литературной биографии, как Хескет Пирсон, которого у нас знают по книгам о Диккенсе и Шоу. Был Ричард Эллман, крупнейший литературовед, написавший об Уайльде том необъятных размеров, который заполнен разнородными, подчас очень ценными сведениями.
Тем не менее книга Ланглада явно выделяется и на этом фоне. Она основана на тщательном изучении документов, до недавнего времени остававшихся известными лишь специалистам, а иногда новых и для них. В ней тщательно восстановлены все существенные события жизни Уайльда и показано, какая это была сложная, яркая, можно сказать, уникальная личность. Причем, в отличие от предшественников, старавшихся описывать Уайльда на фоне общественных и литературных событий его времени, Ланглад уделяет основное внимание как раз исключительности этой фигуры. Для него Оскар Уайльд — это творческий дар в самом чистом своем выражении, воплощенное благородство, которое проявляется даже в минуты жестоких потрясений. Пожалуй, такого Уайльда не приходилось встречать ни у кого из прежних биографов.
Правда, и этой книге отчасти присущ недостаток практически всех биографических очерков: чем достовернее факты и полнее их перечень, тем ощутимее отдаляется от нас художник Уайльд. Но все же и в этом отношении Ланглад выигрывает, особенно на фоне Эллмана. Он в большей мере, чем другие, учитывает, что герой его повествования — романтик, который не проживает, а созидает собственную жизнь. В жизненных отношениях такие люди остаются теми же служителями красоты, что и в искусстве. Этим в случае Уайльда объясняется многое, если не все.
Может быть, единственное существенное возражение, которое наверняка появится у читателей этой биографии, сведется к тому, что интимным сторонам жизни Уайльда в ней уделено слишком много внимания: так много, что шокирующие подробности, случается, заставляют позабыть обо всем остальном. Искусство Уайльда словно бы оказывается чем-то не таким уж существенным для понимания его личности. Повторяется сюжет, о котором когда-то с горечью размышлял Александр Блок: какой ужас для поэта, если он сделается «достояньем доцента». Всему отыщут свои причины, все разложат по полочкам, а ведь поэт обязательно таит в себе что-то загадочное, необъясненное. Возможно, и необъяснимое.
Впрочем, это почувствовал и Ланглад. Свою задачу он видит главным образом в том, чтобы развеять многочисленные легенды об Уайльде и покончить с отголосками тех клеветнических домыслов, которые слышатся вот уже целое столетие. Честность — пожалуй, основное достоинство его рассказа. Он не скрывает своей любви к Уайльду, как и своего возмущения ханжеством викторианской Англии, которое явилось не последней причиной разыгравшейся трагедии. Однако сама трагедия реконструирована в его книге беспристрастно и аналитически, — заслуга, которую оценит каждый, кто знаком с литературой об Уайльде (поистине огромной, как становится ясно даже из выборочной библиографии, завершающей книгу Ланглада).
Меж тем каждому, кто пишет об Уайльде (а особенно о судебном процессе и причинах, которые к нему привели), приходится преодолевать и сложности совсем особого рода, вступая в соперничество с самим Уайльдом. В тюрьме он создал «De Profundis», быть может, самую горькую исповедальную книгу на свете. Себя он не щадит ни в чем, изводит душу перечислением своих слабостей и грехов, порою сильно преувеличенных, кается и взывает к снисхождению. Но не может удержаться — да и нужно ли? — от язвительных выпадов против тех, кто, мягко говоря, способствовал именно такому завершению его блистательного, но недолгого пути. Он предчувствует, что дни его сочтены. Ему нужно сказать всю правду: о себе и о тех, кто находился рядом.
Когда есть столь значительный автобиографический документ, сложно даются иные трактовки и версии. Уайльд рассказал о себе лучше, чем это мог сделать кто бы то ни было. Всякая иная интерпретация покажется натяжкой. На этой мине подорвались многие концептуальные построения, и книга Ланглада, при всех необходимых оговорках, поражает тем, что ее автору удалось избежать такой участи. До Ланглада с той же трудностью смогли справиться лишь немногие, — пожалуй, лучше всех английский прозаик Питер Акройд, автор романа «Последнее завещание Оскара Уайльда». Он вышел в 1983 году.
Это виртуозная книга, в ней с необычайным мастерством переданы не только взгляды Уайльда, но сам характер его мышления. Ирония, игра несочетаемыми понятиями, которые сближены парадоксом, местами едкость, местами наивное самолюбование, — все это у Акройда воспроизведено с чувством меры, не изменившим ему ни разу. Писатель подобен искушенному музыканту, который, нигде не отступая от партитуры, умеет создать собственную интерпретацию. И она тоже становится, как исполняемое произведение, фактом искусства.
В романе Акройда перед нами больной, измученный человек, которому жить осталось три месяца и приходится мириться с нищетой, отверженностью, убожеством быта. Еще клубится пыль над обломками, оставленными недавней катастрофой. Прошлое отрезано, настоящее угнетает. Будущего просто нет.
Рассказ ведется от первого лица. Иное художественное решение выглядело бы фальшью. «Последнее завещание» — как бы дополнительный материал к тому, что написал о себе сам Уайльд. Однако рассказ продолжен и доведен до окончательной развязки (на самом деле, выйдя из тюрьмы, Уайльд не писал ничего).
Оттого так убедительны у Акройда картины душевного состояния умирающего Уайльда, вся сложная гамма противоборствующих чувств смирения, презрения, ужаса, гордости, отчаяния. Такое не достигается одним лишь литературным мастерством. Необходима способность перевоплотиться в другого человека, самому пережить все, им испытанное. Писательская способность.
Ланглад пишет не роман, а биографию в точном значении слова. Однако его метод примерно тот же самый — попытка проникнуть в сокровенные побуждения героя, увидеть его мир как бы изнутри. При сходстве установок результат оказывается совсем иным, чем у Акройда. В «Последнем завещании» воссоздана личность скорее жалкая, чем притягательная, человек с непоправимым надломом, искатель изысканных наслаждений, тяжело расплатившийся за свое гурманство. И на страницах Ланглада порой главенствует эстет, денди, настолько увлеченный избранной им ролью, что он даже не замечает собственных ошибок, которые оказываются непоправимыми. Но прежде всего это гениальный художник, и он остается гением даже в те минуты, когда его вдохновение дремлет и когда свершается круговорот обыденной жизни, которая для него — так он устроен — никогда не сделается плоской, бесцветной будничностью.
Как каждая версия, трактовка, предложенная Лангладом, вероятно, может быть оспорена или, во всяком случае, уточнена. Однако в ее пользу говорят тщательно собранные факты. И самое важное, ею подчеркнута та особенность Уайльда, которая и вправду значительнее всего остального, — его бесконечная, хочется сказать, фанатичная вера в спасительную миссию искусства.
Есть у него цикл стихотворений в прозе, когда-то великолепно переведенных на русский Федором Сологубом. Открывает этот цикл стихотворение «Художник», которое, быть может, следует рассматривать как самый яркий из всех манифестов Уайльда. В нем — сгусток его заветных идей, вся его вера.
«Радость, пребывающая одно мгновенье» и выкованная из «печали, длящейся вовеки», — вот евангелие Уайльда. Не считаясь ни с насмешками, ни с нападками, он упоенно проповедовал его и в своих художественных произведениях, и в эссеистике. Он то пускал в ход оружие разящего парадокса, то возносился в сферы чистой романтики, хотя при необходимости умел укротить противника выпадами беспощадно логичной мысли. Цель же оставалась одной и той же — восславить искусство и красоту, убедив, что все остальное эфемерно.
Поразительно, что в те времена торжествующей вульгарности нашелся человек, ставший бескорыстным поборником красоты и поклонявшийся ей как единственному божеству. Сам этот взгляд на мир казался современникам Уайльда явной аномалией. Как тут было избежать упреков в притворстве и неискренности!
Но ничего притворного в Уайльде не было. Знаменитый афоризм героя Достоевского, что красота спасет мир, лучше всего мог бы выразить суть и дух убеждений английского поэта. Никто, кажется, не относился к подобным мыслям настолько серьезно, как он, хотя его самого красота не спасла. Да и никого не могла бы спасти, покуда речь идет не об идеалах, а о практической жизни.
Но для Уайльда между этими понятиями — идеалы, жизнь — не было разрыва. Чудо красоты внушало ему священный трепет, и он слагал гимны прекрасному, взирая на художника как на мага, чья власть беспредельна. Художник был для него существом избранным, ответственным только перед своим искусством и талантом, но уж никак не перед той моралью, которая сводится к плоским назиданиям пошляков! Не перед добродетелью, убивающей фантазию и свободу. Не перед логикой, оказывающейся просто набором банальностей.
Художник творит красоту и несет обязательства только перед нею одной. Потому что она одна заключает в себе истину. И не позволяет миру окончательно одряхлеть.
В его диалоге «Критик как художник» авторский двойник Джильберт утверждает: искусство «достаточно во всем». Оно «полностью аморально», ибо его цель — «переживание во имя переживания». А все прочее ничтожно, особенно заботы о том, чтобы ни на шаг не отступить от господствующей морали. По логике того же Джильберта, «сделаться образцом добродетели проще простого, если принять вульгарные представления о том, что есть добро. Всего-то и нужно проникнуться жалким страхом, позабыть о воображении и о мысли». А дальше — с решительностью, которую не назвать иначе, чем безоглядной: «Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой духовности. Научиться видеть красоту вещей — это предел того, чего мы способны достичь».
Понятно, какая это рискованная философия. Противопоставлять красоту морали — подобное совсем не в традиции гуманистической культуры (уж тем более — русской). Но надо принять во внимание, против какой морали восставал Уайльд. Чаще всего это был пресловутый «здравый смысл», банальная доктрина целесообразности, кодекс приличий, которым подменено настоящее нравственное чувство. По прошествии века, теперь, когда извлекли на свет многие документы и свидетельства, не предназначенные для посторонних глаз, можно с уверенностью сказать, что за всю историю Англии вряд ли была эпоха столь лицемерная и, по существу, столь распущенная, как конец XIX столетия. И зная это, невозможно не оценить мужества, с каким Уайльд отверг дух своего времени, пропитавшегося пошлостью, — пусть его бунт становился гибельным для самого бунтаря.
Уайльду много раз приходилось удостоверяться в беспочвенности своих представлений, будто не время формирует людей, а наоборот, человек сам создает свое время, утверждая торжество красоты и истины как норму существования. Но, убеждаясь в легковесности подобных надежд на обновление жизни, он все равно их не оставлял. И этому упорству мы обязаны несколькими прекрасными страницами, которые он вписал в историю литературы. Достаточно назвать его бессмертные сказки. Или стихотворения в прозе. Или книгу эссеистики «Замыслы». О драматургии, о романе «Портрет Дориана Грея» не приходится специально говорить — это живая классика. По прошествии столетия с лишним и комедии Уайльда, и его проза пробуждают такую же острую реакцию, как при своем появлении.
Уайльд жил в эпоху исторических канунов и радикальных перемен, которые вызревали в общественном сознании. «Конец века» был и концом определенного порядка жизни. Бескрылый рационализм и плоская логичность, насаждаемые в качестве непререкаемой нормы, уже не вызывали былого доверия. Видеть, чувствовать, выражать текущее, переживая его с наивозможной полнотой, — такие устремления пока еще казались странными или даже опасными большинству современников Уайльда. Однако будущее принадлежало тем, кто осознавал, что вся система ценностей и жизненных ориентаций становится иной, чем прежде.
И Уайльд был едва ли не первым, кто возвестил о необходимости творческого пересоздания жизни, выразив свой программный принцип в диалоге «Упадок лжи»: «Если окажется никоим образом невозможно сдержать или, по меньшей мере, видоизменить наше чудовищное поклонение фактам, Искусство сделается стерильным, а Красота отлетит от этой земли». В его время это казалось в лучшем случае чудачеством, если не пустословием и кокетством. Теперь мы знаем, что по существу он был глубоко прав.
Тогда уже входило в обиход словечко «декаданс», пущенное в ход французами: поэтом Полем Верленом, сказавшим о себе, что он — «римский мир периода упадка», прозаиком Жорисом Карлом Гюисмансом, чей роман «Наоборот» (1884) кое в чем предвосхищает уайльдовского «Дориана Грея». Декаданс выразил томную и душноватую атмосферу «конца века», быть может, болезненно, однако по-своему достоверно. В нем была ущербность, причем скорее нравственная, чем художественная, но сквозь нее пробивалось отвращение к самодовольному скудоумию и жажда света, откровения, непреходящей духовной истины, сколько бы ни говорилось, что свободное творчество и мораль несочетаемы.
Конечно, Уайльд был слишком крупной индивидуальностью, чтобы воспринимать его только под знаком декаданса. Но в его творчестве и судьбе след этих веяний распознается очень отчетливо. Может быть, судьба и сложилась так именно оттого, что Уайльд считал делом своей жизни воспитание определенного художественного вкуса, а тем самым — укрепление образа мыслей и стиля жизни, которые ассоциируются с декадансом. Кстати, судьбы тех его литературных современников, с которыми он ощущал свое настоящее родство, оказались столь же печальными. Достаточно назвать Артюра Рембо, оставившего поэзию, когда ему было всего девятнадцать лет. Или того же Верлена, захлебнувшегося в объятиях «зеленой феи абсента».
Все они служили красоте, признав ее единственной неоспоримой истиной. И для всех неотвратимым становилось отчуждение от мира, в котором они принуждены обитать. В случае с Уайльдом это отчуждение вылилось в открытый конфликт, закончившийся расправой черни над «отщепенцем», имевшим смелость думать по-своему и строить жизнь без оглядки на общепринятые стандарты. Суть этого конфликта очень убедительно раскрыта в книге Ланглада. Видимо, необходимо внести только одно уточнение, — став жертвой интриг маркиза Куинсберри и лорда Дугласа, который сыграл во всей этой истории поистине роковую роль, Уайльд до какой-то степени и сам спровоцировал драму, которой не смог пережить, даже когда ад Редингской тюрьмы для него кончился.
Он на собственном опыте узнал, что такое ярость Калибана, который в его книгах, словно в зеркале, разглядел свой отталкивающий облик, — так, пользуясь образами из шекспировской «Бури», определил он собственные отношения с публикой. Но не слишком ли радикальной была позиция, требовавшая обособиться от этой публики, от «толпы», вызывающе резко, так что субъективный произвол — и в творчестве, и в сфере человеческих отношений — уже переставал нуждаться в каких бы то ни было обоснованиях и оправданиях? Ведь эта позиция грозила обратить творческую свободу в непризнание любых норм и обязательств. Она всего последовательнее выразилась в «Саломее», довольно претенциозной драме, где эпатаж и своего рода шоковая терапия, которой подвергают публику, значили куда больше, чем взятый из Библии сюжет.
Уайльд и в дальнейшем не раз и не два с дерзостью противопоставлял себя «толпе», убежденный, что ее «снисходительность достойна удивления… она все готова простить, кроме таланта». Тепло обыкновенной жизни с ее простыми заботами, драмами и чаяниями оставляло его вполне равнодушным. Его вообще влекло за горизонт будничности, и как художник он всего органичнее осуществил себя, доверяясь чудесному, сказочному, рожденному фантазией и вдохновенной импровизацией. Но среди написанного им есть и такие страницы, которые остались только образцом стилизаторского мастерства, пусть исключительно высокого, или лабораторным опытом, правда необычайно интересным.
Вот эти страницы как раз и способствовали закрепившейся за Уайльдом сомнительной славе денди от искусства. Словно бы ничего другого он и не писал. Словно другому перу принадлежат «Гранатовый домик» и «Счастливый принц», и комедии, ставшие праздником юмора, и блистательная новелла-мистификация «Кентервильское привидение», и не менее блистательная филологическая новелла «Портрет г-на У. Г.», где с необыкновенным остроумием обосновывается догадка о том, кто явился прототипом героя шекспировских сонетов.
Редко к кому общественное мнение было настолько несправедливо, как к Уайльду. Но по-другому, наверное, и не могло быть, ведь сам Уайльд сказал, что «искусство, вовсе не являясь порождением времени, чаще всего находится в конфликте с ним». А он и в своей частной жизни воплощал собой искусство, которое всегда на подозрении у тех, кто поклоняется «полезностям» и придерживается «очень трезвого взгляда на веши», как Волк из его сказки.
Уайльд не принял этого взгляда. Для него истинным было только исключение, а не правило, только мгновенье, а не будни, только искусство, а не реальность, только фантазия, а не факт. И высшим импульсом для него неизменно была свобода от окружающей обезличенности, даруемая творческим началом, которое заключено в каждом и обязано проступить даже в самых заурядных заботах и делах. Вот что он подразумевал, снова и снова повторяя, что не искусство следует за жизнью, а жизнь подражает искусству.
Сам он, по собственному признанию, свой гений вложил в жизнь, а в литературу — только талант. Наверное, ему была бы высшей наградой уверенность, что его книги создали новый человеческий тип или новое умственное состояние, подобно тому как некогда «весь мир сделался печален оттого, что печаль изведал сценический персонаж», созданный Шекспиром. Как галерея характеров обогатилась нигилистом, «чистой воды порождением литературы», поскольку «его выдумал Тургенев, а довершил его портрет Достоевский».
В такой награде судьба отказала Уайльду — не потому, что недостаточен был его талант, а по той причине, что в действительности природа все-таки не подчиняется образам искусства, сколь они ни притягательны.
Но если бы Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его неповторимых книг.
Алексей Зверев
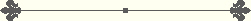
При заимствовании материалов с сайта активная ссылка на источник обязательна.
© 2016—2026 "Оскар Уайльд"