

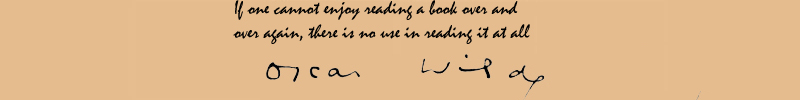
Чуковский К.И. Оскар Уайльд
От автора
В 1916 году, в Лондоне, меня посетил пожилой человек с веселыми молодыми глазами. Когда он назвал свое имя, я с великим уважением пожал его руку, так как это имя Роберт Росс. С детства оно было обаятельно для меня. Роберт Росс, - единственный из тысячи друзей Оскара Уайльда, - не покинул его в несчастии. Он посещал опозоренного поэта в тюрьме, он уплатил все его долги из своего скудного заработка, он взял на себя воспитание его сыновей, он многократно защищал его доброе имя, он спасал его рукописи, он издавал его книги, он ухаживал за ним во время его предсмертной болезни, он - едва ли не единственный - провожал его гроб до могилы. Порою казалось, что все светлое в жизни Оскара Уайльда шло от этого одного человека. Он был высшим воплощением героической дружбы. Уайльд называл его святым. Немного было таких гениальных друзей в истории всего человечества.
После смерти Оскара Уайльда он с таким вниманием следил за всем, что относилось к памяти его покойного друга, что заметил даже мою статью об Уайльде, написанную на непонятном ему языке, и вот пришел ко мне, к незнакомому, чтобы поговорить о любимом. На следующий день я посетил его в его небогатой квартире, и там он воистину осчастливил меня: подарил мне подлинную рукопись Оскара Уайльда, страницу его «Баллады о Рэдингской тюрьме».
- Я хочу, - сказал он, - чтобы в России, где так любят Оскара Уайльда, сохранялась в память о нем эта рукопись. Больше у меня ничего не осталось из вещей и писаний Оскара Уайльда. Только одна страница, и я с радостью дарю ее русскому. Потом он весь вечер рассказывал о судебном процессе Уайльда, о Уистлере, о лорде Дагласе, о жене Уайльда и о двух его сыновьях, которые были тогда офицерами и находились на фронте.
С тех пор мы, отрезанные от Европы, долго не видели английских газет и журналов. Лишь несколько дней назад я случайно узнал, что Роберт Росс умер еще в позапрошлом году.
Посвящаю эту книгу его памяти.
К. Чуковский.
1922
I
Вертлявый, подвижной человечек. Лицо, как у обезьяны, и весь он всклокоченный, грязный. В Дублине так и говорят про него: «самый грязный человек во всей Ирландии». Это доктор Уайльд, знаменитый хирург, специалист по глазным и ушным болезням: доктор Уильям Уайльд.
Операции он делал вдохновенно. Проезжает однажды какой-то деревней, а он был вечно в разъездах, непоседа! - и узнает, что какой-то деревенский мальчишка только что подавился картофелиной. Без минутного размышления он вынимает из грязного своего кармана самые обыкновенные ножницы, режет ножницами мальчику горло, вытаскивает картофелину, и мальчик спасен. Кажется, он жив и поныне. Его видели недавно в Сан-Франциско.
Вообще ножами и ножницами он владел, как живописец кистью. Это был художник операций, дерзкий до гениальности. Когда какому то матросу сорвавшийся парус вогнал большую иголку в глаз, и вогнал ее так глубоко, что не за что было ухватиться, чтобы извлечь ее, доктор Уайльд послал за электромагнитом, и стальная заноза сама удалилась из раны!
По всей Европе прошла его слава. В Англии его назначили придворным хирургом, а впоследствии, в 1864 году, сделали сэром. В Стокгольме ему дали орден Полярной Звезды. В Германии ученые медики и поныне чтут его гений. «Из англичан можно назвать только троих великих хирургов», было заявлено на Цюрихском медицинском съезде, - и в числе этих троих сэр - Уильям Уайльд.
Его хватало на все. Он брался за множество дел, и все горело у него в руках. Он издавал какой-то научный журнал, - превосходный! Он основал, чуть ли не в конюшне, больницу для бедных, - великолепную! Он был статистиком, он был археологом, он был этнографом, и за эти труды академия присудила ему золотую медаль, он читал лекции, он путешествовал по Востоку, он писал толстые книги, - о чем угодно, какие угодно, множество книг и статей: о Свифте, о Беранже, о падающих звездах, о новых методах в медицине, о петушиных боях, об угнетенной Ирландии.
Очень пестрая, мелькающая была у этого человека жизнь. Из больницы - в музей, из музея - на любовное свидание. Его дел и увлечений хватило бы на троих. Он был не только археолог, историк, хирург и этнограф, но просто гуляка праздный: любил выпить и вкусно поесть, был гостеприимен и щедр.
И все же прочны и крепки оказались его дела. Та лечебница, которую он основал и в которой безвозмездно пользовал тысячи и тысячи больных, до сих пор остается его памятником. Его работы по ирландской этнографии не забыты и посейчас. Юркий, живой, общительный, он еще студентом стал записывать по деревням национальные ирландские песни, изучать национальные реликвии, развалины старых замков, предания [1]. В этих научных экскурсиях ему часто сопутствовал сын.
Женщины любили неопрятного, обезьяноподобного доктора. В городе ходило много сплетен о его любовных похождениях. Когда он умирал, у его изголовья, кроме его жены, была еще какая-то женщина, «дама под вуалью»; она приходила каждое утро и только в полночь уходила от него. Внебрачных детей у него было множество, и он нежно о них заботился.
Жена его смотрела снисходительно на эти романтические склонности. И даже когда какая-то пациентка подала на сэра Уильяма в суд за то, что во время приема он лечил ее слишком страстно, леди Уайльд не повела даже бровью. Не такой она была человек, чтобы из-за пустяков волноваться.
Вы приходите к ней в гости. Живет она ни бедно, ни богато, но претенциозно, суматошливо. В сенях вы натыкаетесь на судебного пристава, он явился описать имущество. Какие-то субъекты развязано расселись в креслах.
- Кредиторы! - шепчет лакей. - Теперь уже они - господа!
И утирает слезу.
Вы взволнованно взбегаете вверх - утешить бедную даму. Всюду суматоха, кавардак. Вы находите ее в гостиной. Она лежит на диване и декламирует стихи:
- Слушайте! Слушайте! Какая красота, какая стройность!
Вот чему учат страданья твои, Прометей...
Вы заглядываете в эту книгу. Книга греческая. Дама читает по-гречески и тут же очень бегло переводит.
Исполняется слово Зевеса: земля
Подо мною трепещет...
Это «Скованный Прометей» Эсхила. Дама знает и латынь, и древне-греческий, она знает все языки. Но как странно она одета! В пунцовом балахоне, вся в лентах и кружевах, густо напудрена, и словно языческий идол, увешана брошами и медальонами. Кольца, браслеты, драгоценные камни! А если вы придете к ней вечером, когда собираются гости, она встретит вас в золоченой короне! Вечером, при розовых абажурах, ей будет не больше тридцати. Она заведет с вами беседу о живописи, о поэзии и станет без конца восклицать:
- Замечательно! Изумительно! Великолепно!
Или:
- Ужасно! Отвратительно! Позорно!
Преувеличенное негодование и преувеличенное восхищение - такая у нее черта. Она вечно как будто на эстраде, на театральных подмостках. Недаром же что-то равнодушное слышится в ее пылких речах.
Может быть, здесь же, в гостиной, вы увидите ее сына Оскара, избалованного, холеного мальчика. Если она вам скажет, что она назвала его так, потому что шведский король Оскар был его крестным отцом, не верьте: это неправда. И если она скажет, что сама она из рода великого Данте, тоже не следует верить. Такая страсть у нее к знатным, родовитым, сановным. Она когда-то воспевала революцию, но ей лестно быть королевской кумой. Она взывала к ирландцам: «наточите против английских тиранов ножи!» - а когда эти английские тираны дали ее мужу титул, она забыла о ножах и умолкла. Да и как могла бы искренно призывать к избиению англичан? - ведь сама была англичанкой. Революция была для нее такая же поза, как и все остальное. Оттого так театрально-риторичны ее революционные писания. Конечно, она человек исключительный: писала стихи, прокламации, сочинила множество книг: о Скандинавии, об Ирландии, и о революции во Франции, и о революции в Италии, конечно, она блестяща, находчива, но когда вы уйдете от нее, вы вздохнете с большим облегчением.
Будь у нее поменьше талантов, она была бы просто хорошая женщина; побольше бы банальности, серости, скуки, - был бы душевный уют. Хоть бы сделала сцену неверному мужу Хоть бы оробела при виде судебного пристава! Но она сидит и читает Эсхила и восклицает: дивно! божественно! и если вы человек простодушный, вам невозможно не возненавидеть ее, - ее пудру, ее золотую корону, - самый воздух вокруг нее, тоже как будто неискренний [2].
II
В таком-то неискреннем воздухе, среди фальшивых улыбок, супружеских измен, преувеличенных жестов, театральных поз и театральных слов, - растет пухлый, избалованный мальчик, Оскар Фингал О’Флахерти Уиллз Уайльд.
Он с вялым пренебрежением глядит из окна, как другие дети играют в футбол. Мальчишеские игры не по нем. Он такой степенный и высокомерный. Ему двенадцать лет, а уж он по-воскресеньям носит цилиндр на своих девических кудрях, и товарищи, конечно, ненавидят этого чинного франта. Как-то вечером, в школьном парке, когда торжественной поступью он шествовал мимо них, они накинулись на него, связали его по рукам и ногам, поволокли на высокий пригорок, и, запыленный, исцарапанный до крови, он встал в созерцательную позу и с восхищением мелодически молвил:
- Какой отсюда, с холма, удивительный вид!
Его мать пришла бы в восторг от такой великолепной позы. Этот сын достоин ее. Есть же такая наследственность, такая преемственность жестов и поз:
- Как прекрасен Эсхил! - восклицала она, бравируя пред судебным приставом.
- Как прекрасен пейзаж! - восклицает он, бравируя пред своими обидчиками.
У него, как и у нее, была тысяча разных талантов, но не было одного: таланта искренности и простоты. Он и пред собою не мог не позировать. Незадолго перед смертью, в тюрьме, наедине со своей душой, он писал свою исповедь, великолепные страницы De Profundis, но какая же это исповедь? Это насквозь литература, и даже в последнем унижении, заплеванный и затоптанный, он не умел по настоящему заплакать. Он плакал, - но как благозвучно, с каким прекрасным музыкальным ритмом! Здесь чувствовалось материнское наследие. От отца же Оскар унаследовал разнообразие творческих сил и необузданную любовь к наслаждениям. Когда думаешь об изумительной пестроте его творчества, о том что он с одинаковой легкостью писал и стихи, и философские трактаты, и фарсы, и критические статьи, и рассказы и трагедии, и сказки для детей, и статейки о дамских нарядах, - чувствуешь кровь его отца. Сын таких даровитых, но суетных и суетливых родителей он не мог не жаждать эстрады, публичности, улицы, не мог не пристраститься к отравившим его на всю жизнь салонным великосветским успехам. Чуть не с пеленок он был гостем провинциального салона своей матери. С тех пор салоны стали его любимой стихией. Без них он не мог ни жить, ни творить. За столом, усыпанным фиалками, в освещенных многолюдных залах в Бостоне, Париже или Лондоне он очаровывал светскую чернь блистательным салонным красноречием. Он был гений разговора, нарядной застольной беседы, (я бы даже сказал: болтовни) - не то чтобы «оратор» или «рассказчик», а именно великосветский говорун, собеседник - ирландская, кельтическая кровь!
- «Когда он говорил, мне казалось, я вижу над его головой сияние, - вспоминает о нем одна великосветская дама, и вот что говорит о встрече, с ним французский писатель Рено: «Он опьянил нас лиризмом. Его речь зазвучала, как гимн. Мы страстно и напряженно внимали ему. Этот англичанин, сперва показавшийся нам таким манерным позером, теперь создавал перед нами величайшую оду, какую только слыхало в веках человечество. Многие из нас, растроганные, плакали... И не забудьте, это было в гостиной, и он говорил только так, как принято говорить в гостиной».
«В истории всего человечества», - свидетельствует его друг Robert Sherard, - «не было такого собеседника. Он говорил, и все, кто внимали ему, изумлялись, почему же весь мир не внимает ему!»
Даже незадолго до его смерти, в тюрьме, когда его, больного, поместили в госпитале, он сел на кровати и своей тонкой беседой превратил на минуту острожную палату в салон, очаровав этих убийц и воров, как прежде очаровывал великосветских господ и художников [3]. Он был как бы Шехеразадой салонов и в этом видел свое главное призвание. Свой магнетизм он любил проявлять в праздничной и праздной толпе, и не для его темперамента было сидеть за столом и водить пером по бумаге. «Я мог бы сделаться популярным писателем, но это так легко», - заявлял он с обычным кокетством, и его друзья вспоминают теперь множество его ненаписанных рассказов, поэм и легенд, множество его несозданных созданий. «Я череcчур поэтичен, чтобы заниматься поэзией», повторял он не раз, и те сюжеты, которые приходили ему в голову, дарил своему брату Уильяму, который тоже был писателем. Иногда, в одно утро, Уильям получал от него пять или шесть сюжетов сразу.
Он царь, но он и раб этих салонов. Каким-то особенным тоном он произносит громкие титулы знакомых маркизов и лордов. «Люди нашего круга», говорит он о них в De Profundis, забывая, что отец его был из аптекарей и сделал карьеру горбом. Свою мать в разговоре с другими он неизменно величал «ее сиятельством» [4] и говорил о ней так, словно у нее родовые поместья и замки. «Я унаследовал от предков гордое аристократическое имя», - говорит он в своих тюремных записках, но, конечно, британская знать, охотно принимавшая его, как блестящего литературного льва, все же видела в нем постороннего и смотрела на него сверху вниз. Он же только к ней и тянулся, только и руководился ее вкусами.
Быть фланером, быть дэнди - высшее его честолюбие. В середине восьмидесятых годов он, ради денег, работает в лондонских газетах; он критик-фельетонист, чернорабочий, но всячески скрывает это и любит выдавать себя за праздного баловня жизни, за любимца наслаждений и нег. Ежедневно целые часы он проводит у своего парикмахера. «Тщательно выбранная бутоньерка эффектнее чистоты и невинности», - одно из его изречений. «Красиво завязанный галстук - первый в жизни серьёзный шаг». «Только поверхностные люди не судят по внешности», - повторяет он своим ученикам, а у него всегда были ученики, он учил их, как носить жилеты и как поклоняться красоте; он завораживал их своими речами - о чем угодно, о ком угодно, но больше всего о книгах. Книги он любил, как любят цветы, перебирал их, как самоцветные камни. Его мать и его отец были отменные книжники. Природы он не любил - ни неба, ни деревьев, ни звезд, влюбчив не был, и весь пыл своей чувственной натуры отдал печатным страницам. Он глотал их, как глотают устрицы, своими красными, дряблыми губами, - великий чревоугодник души! - вся жизнь была для него как бы стол, уставленный яствами, и он, как гурман, отведывал то одно, то другое блюдо. Никакою иного восприятия жизни - только гурманское, только вкусовое! Плотоядно смаковал он рифмы Теофиля Готье и картины Уистлера, плотоядно слушал Шопена или «безумно-алую пьесу Дворжака», и смотреть на какой-нибудь красивый предмет, на яркую краску, красную, желтую, зеленую, - только смотреть! - было для него как бы пьянство, будто все впечатления жизни он впитывал в себя этими дряблыми своими губами. Из великих мировых идей он делал вкусовые ощущения. Учитель, апостол нег, - эта поза ему нравилась больше всего.
- «Почему мы проявляем столько сочувствия к страданиям бедняков? Следовало бы сочувствовать радости, красоте, краскам жизни». Он тысячу раз доказывал, что всякая жертва, всякое мученичество, всякий аскетизм ведут к вырождению и дикости, и эти его красные сенсуальные губы чувствуешь у него в каждой строке:
- «Разве то, что приятно вкушать, не создано для вкушающего? И в том, что сладостно пить, разве заключается отрава?» Пить и вкушать он любил чрезвычайно. «Он был величайший обжора изо всех, каких я когда либо знавал» - читаем о нем в книге Дагласа [5].
Он физически не выносил несчастных, некрасивых и бедных: однажды чуть не убежал из гостиной приятеля, так как ее убранство показалось ему неизящным:
- Если я хоть минуту здесь останусь, я заболею! - стонал он.
И точно так же обратился в бегство, когда попал в какую-то трущобу, где копошилась беднота, - даже не поднялся по лестнице, а глянул и в ужасе бросился вон. Он боготворил поэта Верлена, но, познакомившись с ним и увидев, что тот некрасив, отказался от дальнейшего знакомства.
- Я не могу, - говорил он капризно: - нет, я никак не могу!
III
Modo vir modo femina.
Он смаковал картины и рифмы, но поклонение поэтам и художникам выражалось у него как-то странно. Влюбленный в них, он начинал всячески подражать им, и если, например, садился за письменный стол в белой рясе с черным капюшоном, то лишь потому, что такую же рясу носил Бальзак; если пил абсент, то из подражания Бодлэру; стол он завёл у себя тот же, какой был у Карлейля, и даже голос был у него не собственный, а прекрасная имитация голоса Сарры Бернар. Прическу он заимствовал у Неронова бюста в Лувре. Его роман «Портрет Дориана Грэя» - изумительное подражание Бальзаку и Гюисмансу, в его сказках много Андерсена, его знаменитая поэма «Дом Блудницы» в каждой своей запятой есть сочетание Эдгара По с Бодлэром.
Уистлер едко отзывался о нем:
- «Он вылавливает из наших пуддингов сливы», и открыто обвинял его в том, что, под видом своих собственных лекций, Оскар Уайльд читает чужие [6].
Любить для него означало: имитировать. Он был, до странности, не-творец, не-создатель. В нем не было ничего самобытного. Это чисто женская у него черта: восприимчивость, способность усвоить, принять, впитать в свою кровь, взрастить семена чужих вдохновений и чувств.
Вообще, вся душа была у него до поразительности женская, дамская: он был так по-дамски говорлив, так по-дамски суетен, так по-дамски увлекался нарядами, мог целые дни говорить о выкройках, фасонах и модах, так заботился о своей наружности, о цвете лица и прическе; так по-дамски ценил свои успехи в обществе, жаждал нравиться всем и каждому, даже тем, кого не уважал, и всегда, уходя из гостей, спрашивал кого-нибудь близкого: «ну что, я имел успех?» - и очень страдал, если нет. Он постоянно кокетничал, он любил комплименты (и даже в тюрьме восхищался, что его друг, Роберт Росс, пишет ему комплиментарные письма). Он по-дамски скрывал свои годы, - даже в своих стихах, даже на судебном процессе уменьшал свой возраст на несколько лет, и когда ему было за тридцать, уверял в одной поэме, что он
Лишь двадцать раз видал,
Как осень пышную сменял
Весны ликующий наряд [7]
Чисто по-женски он боялся не смерти, а умирания; утраты красоты, а не жизни, и так рыдал об этом в «Дориане».
Словом, соберите все мелкие черточки его психологии, и пред вами будет женщина, дама. Все духовное его естество было женское, да и физически он был женоподобен, и только случайно, по недоразумению, по роковому капризу природы, родился в обличии мальчика. В этом его роковое несчастье - тот его «грех», тот «порок», за который его столь жестоко судили.
Как по-женски он ропщет в «Балладе о Рэдингской тюрьме» и в «De Profundis», что арестантский наряд безобразен:
- «Уже одно одеяние наше делает нас смешными!» - «Между всеми отверженными самый некрасивый был я».
Бедная женская душа, заключенная в мужское тело. Здесь будет ее величайшая мука; здесь для нее уготован ее величайший позор.
Как страстно, по-женски, в своих стихах и в прозе он описывает красоту мужчин, розово-белых и смуглых, и как равнодушны, формальны его описания женщин.
- «Ваши губы - розовые лепестки, созданные для мелодии песен и для безумия лобзаний», - пишет он юноше лорду Альфреду, и когда на его скандальном процессе его спросили: правда ли, что в кабинете ресторана он поцеловал мужчину, лакея, он, не подумав, воскликнул из глубины своей женской души:
- Боже сохрани! Ведь он не был красив.
Эти слова погубили его. И даже в своих сочинениях он типичнейший женомуж, modo vir, modo femina, - больше femina, нежели vir.
Жаль, что В. В. Розанов, со своим чрезвычайным чутьем ко всему сексуальному в духовных проявлениях личности, прошел мимо Оскара Уайльда. Для нас творения Уайльда есть точнейшее отражение идеального Вейнингерова Ж. Мы в каждой строке ощущаем эту его женскую сущность и в дальнейшем постараемся обнаружить ее пред читателем. Правда, он женился, как все, но к жене был равнодушен до странности. С иронией писал он о ней почти через год после свадьбы: «Она похожа на райскую птицу, побывавшую под дождем» [8].
Его мать, инстинктивно чувствуя в нем не сына, а дочь, недаром долгое время наряжала его, как девочку, - в фартучки, юбочки, ленточки... И любопытнейшее указание биографов: перед тем, как родиться Оскару, она была непоколебимо уверена, что родится непременно девочка. Говорят, что у женщин, которые интеллектуально и всячески стоят выше своих мужей, часто рождаются женственные, женоподобные дети. Если бы его судьи, которые 25 мая 1895 г. приговорили его к двум годам заключения в каторжной тюрьме, были литературными критиками, они, даже не изучая его жизни, из одних только его книг, поняли бы, что в его преступлении, - если это преступление, - не было так называемой злой воли, а только натуральное проявление извращенного природой организма. Не его была вина, что по отношению к мужчинам он, бедный, естественно чувствовал себя невестой, женой, любовницей. Это можно угадать и в его книгах.
Когда просматриваешь его ранние портреты (они собраны у Шерарда, в «The Story of an Unhappy Friendship»), то изумляешься: ведь это и вправду девочка. Там же есть портрет 1883 года, где Уайльд в каждой черте - переодетая барышня, в полном расцвете девичества! А этот его юный возлюбленный, лорд Альфред, которого он угощает ликерами, ужинами, возит в Монте-Карло, на курорты, за которого платит долги, на которого, как немолодая влюбленная, тратит последние тысячи, - а потом осыпает его упреками и все же не может прожить без него, снова едет за ним, снова отдает ему последнее, и, покинутый, обманутый им, теряет тотчас же всякий вкус к бытию, - чисто женская поздняя безвольная страсть к молодому - пусть и заурядному - самцу.
IV
Раньше, чем судить о его книгах, расскажем его жизнь по порядку. Напомним хотя бы в нескольких беглых строках общеизвестные факты и даты его биографии.
Он родился в Дублине 15 октября 1856 года. Окончив Дублинский Троицкий колледж, где им были проявлены большие успехи в изучении римских и греческих классиков, он поступил в Оксфордский Университет. Летом 1877 гола, на каникулах он совершил экскурсию по Италии и Греции. В 1878 году на ежегодном конкурсе студентов-стихотворцев он получил знаменитую Ньюдигэтову премию за свою поэму «Равенна» [9].
Тогда же началось его выступление в роли эстета. Он украсил свою студенческую квартиру подсолнечниками, лилиями, павлиньими перьями, синим фарфором и стал с аффектированной набожностью поклоняться красивым вещам. В этой религии не было ничего нового, так как ее внедряли в нравы английского общества и Рэскин и прерафаэлиты, и (живший в том же Оксфорде) Уолтер Патер, и Уистлер, незадолго приехавший в Англию. Уайльд не изобрел эстетизма, но он довел его до крайних пределов, сделал его воинствующим, публичным и шумным. В университете студенты разгромили его слишком нарядные комнаты, но это не смутило его. Окончив университет, он явился в столицу в особом эстетическом костюме: в бархатном берете, с длинными локонами, с отложными кружевными манжетами, в коротких панталонах и длинных чулках и добился того, что газеты и широкая публика стали считать его основоположником и вождем «эстетизма». Никто не принимал его всерьез.
Юмористический журнал «Пэнч» добродушно потешался над ним и вообще над эстетами, которых тогда расплодилось немало среди английской золотой молодежи. Это были женоподобные юноши, жеманные и томные, презирающие политику, спорт и торговлю, что чрезвычайно раздражало их отцов. Главою этой молодежи стал Уайльд. В 1881 году вышла книжка его стихов. Стихи были весьма обыкновенные, но благодаря шуму, окружавшему автора, быстро разошлись в пяти изданиях. В октябре 1881 года, в театре «Сэвой», была поставлена забавная оперетка «Терпение», едко осмеявшая эстетов и их молодого вождя.
Оперетка сослужила Уайльду огромную службу. Ее поставили в Америке, но так как янки и в глаза не видали эстетов, то главная соль оперетки ускользала от них. Хлопоча об успехе пьесы, антрепренер придумал отличное средство: он выписал в Америку Оскара Уайльда, чтобы тот, шумя, проповедовал свой эстетизм. Пусть публика смеется над ним, тем охотнее она будет смотреть оперетку! План удался блестяще. Уайльд прибыл в Америку и с большим тактом, талантом, изяществом выполнил свою двусмысленную роль. Через несколько месяцев он вернулся в Америку снова, чтобы поставить там состряпанную им мелодраму из русского быта (!) «Вера или нигилисты», написанную им под впечатлением убийства Александра II. Оттуда он уехал в Париж, расстался с экстравагантным костюмом, начал одеваться, как все, и написал громадную трагедию в духе Елисаветинских трагиков, «Герцогиню Падуанскую». И «Герцогиня Падуанская», и «Вера», и «Стихи» - были чисто ремесленным подражанием разным писателям, но тогда же в 1883 году Уайльд начал свое первое зрелое произведение «Сфинкс», оконченное им лишь десять лет спустя. Когда средства его истощились, он вернулся в Лондон, стал читать лекции, сотрудничать в газетах - и редактировать журнал «Женский мир». В 1884 году он женился на Констанции Ллойд, которая принесла ему небольшое приданое. В 1885 году появилась «Истина Масок». В 1887 году - «Преступление лорда Сэвила», «Кэнтервильское Привидение», «Сфинкс без загадки» и пр. В 1888 году - первая книга сказок («Счастливый принц» и др.). В 1889 году - «Портрет мистера W. Н.», «Перо, карандаш и отрава», «Упадок лжи». В 1890 году - «Критик как художник» и «Портрет Дориана Грэя». В 1891 году - вторая книга сказок («Молодой король» и др.) и «Саломея». С этого времени кончается период сравнительной бедности Уайльда и начинается время огромных денег и огромного успеха: Уайльд в угоду обывательским вкусам стал писать для театра внутренне банальные, но блестящие пьесы: «Веер леди Уиндермир» (1892), «Незначительная женщина» (1893), «Идеальный муж» (1894), «Как важно быть серьезным» (1895). Но в самом начале 1895 года его любовная связь с молодым лордом Дагласом, сыном маркиза Куинзбери, вызвала скандальный судебный процесс. Маркиз оскорбил Уайльда, защищая честь своего сына. Уайльд привлек маркиза к суду за клевету; суд оправдал маркиза и тем самым осудил Уайльда. Уайльду была предоставлена возможность бежать, но он остался в Англии, подвергся пытке вторичного судебного процесса и был приговорен к двухлетнему заключению в каторжной тюрьме. К концу своего пребывания в тюрьме, в 1897 году, он написал обширное письмо к лорду Дагласу, которое восемь лет спустя было опубликовано в отрывках под заглавием «De profundis».
Выйдя из тюрьмы, он под именем Мельмота-Скитальца уехал во французский приморский городок Барневаль, где и написал свою «Балладу о Рэдингской тюрьме». В Варневале он вел идиллическую жизнь, много возился с детьми, ложился в десять, вставал в половине восьмого, но вскоре неожиданно уехал в Неаполь к Дагласу, после чего перестал писать, опустился. Последние два года своей жизни он провел в Риме, в Париже и в Швейцарии. Скончался в Париже 3 декабря 1900 года, перейдя перед кончиной в католичество.
V
Теперь, переходя к его книгам, мы должны с самого начала заметить, что в них, если всмотреться внимательно, есть несколько странных черт. Например: они написаны навыворот. Это очень любопытная особенность.
Возьмем хотя бы рассказ «Кэнтервильское привидение». Тема этого рассказа - вывернутая: кто не читал о том, как привидения пугают людей, но только у Оскара Уайльда люди испугали привидение.
В старинный готический замок, где уже триста лет хозяйничал дух мертвеца, попали современные янки, и бедному призраку пришлось очень плохо: его зашвыряли подушками, окатили водой и до смерти испугали «привидением», сделанным из метлы и тряпки.
В этой веселой балладе Оскар Уайльд взял очень старую, традиционную тему и вывернул ее наизнанку, как мы выворачиваем перчатку или чулок, перелиновал ее, - и следует тут же отметить, что такая у него была привычка: выворачивать наизнанку все, что ни подвернется ему под перо.
Его знаменитый роман «Портрет Дориана Грея» есть идеальный пример такого извращенного сюжета: роман повествует о том, как портрет одного человека состарился, покрылся морщинами, облысел и, даже, кажется, потерял зубы, а сам человек остался юным и неизменно прекрасным.
Или эта легенда Оскара Уайльда о юноше красавце Нарциссе? Все мы читали, - и тысячу раз, - как Нарцисс влюбленными очами гляделся в свое отражение в воде, но только Уайльд мог придумать и рассказать, как вода глядится в очи Нарцисса, т. е. опять-таки вывернул эту легенду наизнанку.
Или в «De Profundis» - религиозное братство атеистов, где неверующий священник молится перед пустым алтарем, и причащает неверующих вином, а не кровью Христовой, и благодарит Бога за то, что его нет, - что это, как не монашеский орден навыворот, святая литургия наизнанку!
А в «Преступлении Лорда Артура Сэвилла» - как задорно поставлены вверх ногами все привычные мысли и образы! Невинный застенчивый юноша замышляет убийство за убийством именно потому, что он так чист и невинен. «Лорд Артур, - говорится в рассказе, - был слишком благороден, не ставил наслаждений выше принципов, и потому не колебался исполнить свой долг»: отравить любимую тетку, взорвать дядю, а кого-то утопить в реке.
И когда этот закоренелый убийца идет совершить преступление, он посылает своей кроткой и чистой невесте роскошную корзину цветов. Еще бы! У Оскара Уайльда убийцы всегда так нежны и утонченны: он рассказывает, как другой убийца, отравив свояченицу, тещу и дядю, отдыхает среди своих редкостных статуй и книг и плачет слезами восторга над идиллической поэзией Уордсворта («Перо, карандаш и отрава»), А третий убийца, Дориан, зарезав своего лучшего друга, начинает рисовать цветы и смаковать стихи Теофиля Готье. Все навыворот, все наоборот в этом перевернутом мире, не только образы или сюжеты, но - и мысли, и вы только вчитайтесь в такие изречения Уайльда:
- Душа родится дряхлой, но становится все моложе.
- Ненужные вещи в наш век единственно нам нужны.
- Холостяки ведут семейную жизнь, а женатые - холостую.
- Ничего не делать - очень тяжелый труд.
- Если скажешь правду, все равно рано или поздно попадешься.
Во всех этих изречениях именно та особенность, что они - наоборот. Берется общепринятая мысль и почти механически ставится вверх ногами. Конечно, банальность остается банальностью, но производит впечатление парадокса. Таких афоризмов наизнанку, таких (как сказал бы Базаров) «противоположных общих мест» у Оскара Уайльда - тысячи. Если, например, до сих пор говорилось:
- Браки совершаются в небе. У него говорится:
- Расторжение браков совершается в небе.
Если существовала крылатая фраза:
- Высшие классы общества да послужат примером для низших!
У него говорится:
- Для чего же и существуют низшие классы, как не для того, чтобы подавать нам, высшим, пример!
Эти перевернутые мысли мелькают у него на каждой странице. Думать для него означало перевертывать мысли. Он постоянно создавал такие афоризмы:
- Естественность это поза.
- Время - потеря денег.
- Своя рубашка дальше от тела.
Когда я впервые знакомился с Оскаром Уайльдом, мне казалось, что фабрикация таких изречений есть, в сущности, дело не трудное. Нужно только, как говорит в романе Уайльда одна девушка, «заново написать все пословицы», всякую пропись перевернуть вверх ногами, и при этом иметь такой вид, будто совершаешь нечто небывало-дерзновенное, возносишь новые скрижали на новый Синай:
- Ради парадокса, Гарри, вы приносите в жертву все.
- Мир охотно идет на этот жертвенник! - отвечает Гарри-Уайльд.
- Вы обращаетесь с миром, как с каким-то стеклянным шариком, - вот какую грандиозную роль приписывал он своим парадоксам.
«Все философские системы я влагал в одну фразу, всё бытие в эпиграмму», - похвалялся он потом в De Profundis -... «Путь парадоксов - путь истины!» «Чтобы испытать действительность, ее надо видеть на туго-натянутом канате. Когда истины становятся акробатами, мы можем судить о них». Принц-Парадокс, повелитель всех истин-акробатов, истин-клоунов, такой титул был ему дороже всего, и он всегда был готов щеголять своими перевернутыми мыслями:
- «Я интересуюсь лишь тем, что меня совсем не касается».
- «Я могу поверить лишь невероятному».
- «Когда люди соглашаются со мною, я вижу, что я неправ».
И так дальше, и так дальше, с тем же механическим однообразием: выворачивает, выворачивает наизнанку всевозможные общие места [10].
Нет, - думал я: - это не Царь-Парадокс, это даже не раб Парадокса, это просто словесных дел мастер, изготовитель салонных афоризмов.
Светский человек, чуть ли не родившийся в гостиной, - он усвоил себе вполне, развил и довел до совершенства все методы салонного мышления, этой блестящей, но бесплодной игры ума, где остроумие дороже мудрости, и яркость ценнее глубины, где главная цель блеснуть, поразить, «произвести впечатление», где тихие, заветные мысли были бы совершенно некстати, и даже, пожалуй, нужно, чтобы вы сами не верили в то, что вы так эффектно высказываете, и тогда старая герцогиня Бервик, как это часто бывает на страницах Уайльда, ударит вас по руке своим веером и ласково скажет:
- Какой вы ужасный циник! Приходите к нам завтра обедать!
Здесь высшая награда для салонного ницшеанца.
Он явится завтра к герцогине с большой бутоньеркой фиалок, и там-то, между третьим и четвертым блюдом, заканканируют у него на туго-натянутой проволоке его мысли-клоуны и чувства-акробаты. Он будет требовать уважения к младшим, он докажет, что семейный очаг - настоящая сфера для мужчины, что в душе есть животность, а в теле духовность, что филантропы совершенно лишены всякого чувства человеколюбия, и - «ах!» - воскликнет он, например: - «как я недавно хохотал... на похоронах покойного брата [11]. Горе у меня выразилось именно так. Всех это, конечно, возмутило, но когда же все не возмущаются! Я находил, что мой смех великолепен. Плакать умеет каждый, я же усилил свое горе далеко за пределы слез».
Здесь тучная герцогиня Гарлей ударит его веером и скажет:
- Вы очень опасны и злы. Приезжайте к нам во вторник обедать.
Бог с ним и со всей его пиротехникой! Пускай себе хохочет на погосте! Пускай убийцы у него отличаются нежностью, а человеколюбцы ненавидят людей! Это все лишь кокетство ума, в этом нет ни лиризма, ни искренности, и кто же не отойдет равнодушно от этих равнодушно сфабрикованных фраз. Главное, такой неинтимный писатель! Он как-будто и думает не для себя, а для публики. Любопытно, что у него на душе, когда он остается один, когда не для кого ему мастерить афоризмы. Но другого пути у него не было: таких методов и форм мышления требовала от него та великосветская салонная чернь, ко вкусам которой было приспособлено его дарование. Она же требовала их потому, что при всем своем кажущемся бунтарстве, они, в сущности, вполне безопасны и, выворачивая наизнанку весь мир, оставляют все, как было.
VI
Замечательно, что не только в шутливых комедиях, а в самых серьезных вещах Уайльд проявляет те же приемы мышления. Даже когда он скорбит, он изливает свою скорбь в парадоксах. В «Балладе о Рэдингской тюрьме», например, он патетически возглашает роковой парадокс нашей жизни, что любить это значит убить, что в любви есть смерть и в смерти любовь, - и хотя здесь уже нет былого щегольства остроумием, здесь тот же блеск эффектных парадоксов:
«Всякий убивает того, кого любит (всякий да узнает об этом), - иной ненавидящим взглядом, иной ласкающим словом; трус убивает поцелуем, а кто посмелее - мечом».
«Иной убивает возлюбленных в юности, иной - когда наступает старость; руками Похоти удушают иные любимого, иные руками Золота Самый добрый берется за нож, ибо мертвые так скоро холодеют».
И разве не на том же парадоксе зиждется его ранняя трагедия «Герцогиня Падуанская»:
Меня любил он и за это - смерть.
«Саломея» - тот же парадокс: «в любви есть смерть и в смерти любовь» - и умирает юный сириец, который не вынес жгуче–любовных слов, обращенных Саломеей к Иоканаану; умирает Саломея; умирает Иоканаан; умирает Ирод-Антипа, - вот истинная сущность любви.
Не только свои страсти, но и мысли, драгоценнейшие свои убеждения, фатально выливал он в парадоксы. В книге «Замыслы» он так сосредоточенно говорит о самом дорогом, и все же кажется, будто он только позирует, только играет словами, будто и здесь его мысли, акробаты и клоуны, пляшут-кувыркаются на туго натянутой проволоке. В статье «Критик как художник», в «Упадке лжи» - что ни страница» то перспектива куда-то и вдаль, и в ширь, и какие проникновения, пророчества, но все же, с первого взгляда, вам кажется, что и здесь ненужное сверкание парадоксов, - так весело ставит он вверх ногами банальные прописи и заявляет, что нам нужна ложь, как наука, ложь, как искусство, ложь как общественное благо; что истина погубила красоту; что искренность, вредна для поэзии, что объективная форма есть самая субъективная, что наказание - причина преступления, - и только немногие заметят, какие вещие и мудрые помыслы доведены здесь Уайльдом до нарочитого абсурда. Абсурд - его высшая мудрость, и он не принял бы истины, если бы она не притворилась софизмом.
Как, должно быть, восхищенно ужасалась милая леди Гэнсингтон, когда он у нее за столом, усеянным фиалками, так задорно и невинно высказывал, будто ее орхидеи прекрасны, как прекрасны семь смертных грехов, будто семи грехам он воздвигнет семь алтарей, и что самое страшное в мире - это семь смертных добродетелей! И сколько раз так же игриво, как будто не веря себе самому, он посрамлял эти «семь смертных добродетелей», сколько писал в своих книгах:
«Совесть и трусость - одно и то же. Совесть - это вывеска фирмы».
«Я могу сочувствовать чему угодно, только не горю людскому».
«Единственный способ отделаться от искушения - это поддаться ему».
И всем казалось такой же клоунадой, таким же сальто-мортале его уверение, будто «порок - элемент прогресса», будто «порок - это единственная красочность, сохранившаяся в нашей жизни», будто «сатана есть утренняя звезда порока»; будто «обладание хорошим поваром гораздо важнее нравственности», ибо «мало утешения в том, что человек, накормивший вас невкусным обедом, безупречен в своей личной жизни», - но для Уайльда в глубине души здесь было торжественное, священное дело, и если не он написал «Переоценку всех ценностей», если «Так говорил Заратуста» вместо него написал другой, то все же в ею легковесных афоризмах, этих веселых набегах на совесть, на долг, на добро, можно найти все зародыши ницшеанства, хотя имя знаменитого имморалиста ни разу не упоминается во всех тринадцати томах сочинений Уайльда.
Титаническая борьба с «добром», этой «рабьей моралью», с фикциями долга и совести, которую с молотом в руке, вел творец Заратустры, у Оскара Уайльда свелась на какие-то ловкие и легкие пируэты, на этакие грациозные взмахи рапиры, но если вглядеться, увидишь и здесь в этом паркетном фехтовальщике упорного и страстного воителя. Он бунтовал против чего угодно, кажется, против всего на свете, он кричал, что ненавидит природу, ненавидит истину, ненавидит искреннее чувство, что он презирает человеческий труд, все наше дело и делание, что всякое прикосновение к действительности для него отвратительно, - или нет, не кричал, а изысканно и жеманно, во фраке и лакированных ботинках, ненатурально-театральным голосом, подражая Сарре Бернар, полу-пел, полу-изрекал среди белых жилетов и бальных декольтэ, - и, я думаю, немногие подозревали тогда, что этот надушенный Заратустра, самодовольный суеслов - есть религиозная и фанатичная душа, рыцарь и паладин единой суровой святыни. Он часто ощущал в себе эту религиозную душу и (таков уж был у него темперамент!) кричал о ней на всех перекрестках, но, кажется, сам себе не верил, и ему не верил никто!
Мы видели, что двадцати с чем-то лет он надел короткие штанишки, взял зачем-то в руки подсолнечник и, переплыв океан, в этаком неподобающем для жреца облачении, на эстрадах и подмостках Нью-Йорка, Чикаго, Бостона доказывал всеми клялся, что он - верный, истинный, единственный служитель этой неизреченной святыни; но чем громче он кричал, тем меньше его слышали, и он лучше всего сохранил свою тайну, столь крикливо разглашая ее.
VII
Эта шумная, громкая тайна, как известно, заключалась в том, что Уайльд боготворил красоту. «Апостол эстетизма» таково было в английском обществе его официальное звание; так величали его газеты и юмористические листки. «Эстет» это было как бы его чином, его саном, его карьерой, профессией, его общественным положением.
- Что вы разумеете под словом эстетизм? - то и дело вопрошали у него репортеры, и он торжественно разъяснял им, что это «величайшее откровение величайшей жизненной мистерии»; они записывали и учтиво ухмылялись, но по лицу их можно было видеть, что они не верили ни единому слову.
Когда он приезжал в провинцию читать лекции о своем эстетизме, его приезд возвещался в таких вульгарно-монструозных анонсах.
Он идет!!!
Он идет!!!
Он идет!!
Кто идет???
Кто идет???
Кто идет???
Оскар Уайльд!!!
Оскар Уайльд!!!
Оскар Уайльд!!!
Великий эстет!!!
Великий эстет!!!
Великий эстет!!!
И всегда вокруг его эстетизма реяли какие-то легкие тени скандала. Он нисколько, например, не растерялся, когда шестьдесят бостонских студентов нарядились в такие же короткие брюки, как он, и во время его лекции, с такими же подсолнечниками в руках, демонстративно прошагали перед ним при одобрительных возгласах публики; когда в американских ресторанах в него швыряли тарелками, когда разбивали стекла его экипажа: эта стихия была для него родная. Не только рекламу, но и анекдот сделал он из своей апостольской миссии! Свой символ веры превратил в оффенбаховщину! Рассказывают, например, что его прихотливые взоры были однажды возмущены неэстетичными лохмотьями какого-то нищего, которого он постоянно наблюдал из окна, и вот он решил заказать бедняку «идеальное нищенское рубище» - картинное и живописное. Взял этого человека к лучшему своему портному, одел его по последней моде и потом самолично наметил, в каких местах нужно прорезать дыры и где сделать симметрические, гармонические пятна, дабы впредь у него перед взорами не было (даже на улице!) никаких неизящных впечатлений.
Таких рассказов об Уайльде множество; он как будто нарочно заботился, чтобы сделать из своей религии - комедию. Когда при везде в Америку, он был спрошен таможенным: не везет ли он с собою каких-нибудь ценностей, подлежащих пошлине, он ответил:
- Ничего, кроме гения!
Он являлся перед публикой в нелепом «эстетическом» костюме, и, кажется, сам не знал, кто же он в сущности такой: рекламист? пророк? или клоун? - и часто ненавидел свой костюм, свои позы, и свой эстетизм. Поразительно было то, что, несмотря на эту ужасную уличную кличку «эстет», он и в самом деле был эстетом; несмотря на эти вульгарные выступления в дешевой роли «апостола красоты», он и в самом деле был ее апостолом и, должно быть, сам не подозревал, сколько жертв и подвигов совершил во имя ее. [12]
VIII
Красота, которой он служил, была особенная, отмежеванная от всего остального.
Сколько эстетической радости, - радости чисто женской! - доставляло ему, например, созерцание драгоценных камней.
Раскрываю одну его книгу, читаю:
«Там были опалы и сапфиры, опалы в хрустальных чашах, а сапфиры в чашах из ясписа. Крупные зеленые изумруды были разложены рядами на тонких блюдах из слоновой кости, а в углу были шелковые тюки, набитые бирюзой и бериллами. Рога из слоновой кости были полны до краев пурпуровыми аметистами, а рога из меди - халцедонами... На овальных плоских щитах там были насыпаны карбункулы, иные такого цвета, как вино, иные такого - как трава».
Это сказка Оскара Уайльда «Рыбак и его Душа».
Раскрываю другую книгу и читаю:
«У меня есть ониксы, подобные зрачкам мёртвой женщины. У меня есть лунные камни, которые меняются, когда меняется луна, и бледнеют перед взорами солнца. У меня есть хризолиты и бериллы, хризопразы и рубины, сардониксы, гиацинты, халцедоны, я отдам тебе их все и к ним прибавлю другие сокровища».
Это драма Оскара Уайльда «Саломея».
Раскрываю третью книгу и читаю:
«Он часто проводил целые дни, пересыпая из шкатулки в шкатулку оливково-зеленые хризобериллы, которые кажутся красными при сиянии лампы, кимофаны, прорезанные серебряной чертой, точно проволокой, фисташковые хризолиты; розово-красные и винно-желтые топазы, огненно-пурпурные карбункулы с дрожащими в них звездочками о четырех лучах, кровавые венисы, оранжевые и лиловые шпинели; его пленяло красное золото солнечного камня, жемчужная белизна лунного камня» и т. д., и т. д., и т. д.
Это роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грэя».
То же в его сказках, стихах, в знаменитой поэме «Сфинкс», в трагедии «Женщина, увешанная драгоценностями». Даже в «Счастливом Принце» - бериллы, сапфиры, рубины, и мрамор, и нефрит, и позолота, а в «Молодом Короле»: жемчуг, агат, бирюза, аметист. Каждая страница его сказок об Инфанте и о Душе Рыбака, словно царская порфира или византийская риза, расшита целыми гирляндами и гроздьями яхонтов, лалов, алмазов, и сколько золота, мрамора, слоновой кости! Ему бы давно пора закончить, а он перечисляет еще и еще, он задерживает действие, он замедляет темп, - лишь бы только натешить свою душу этим созерцанием сокровищ. Не то, чтобы изображать их, а уж только перечислять, только называть их имена было для Оскара Уайльда неизъяснимым блаженством.
И вот еще мельчайшая подробность: он с таким же упоением, - опять-таки женским, дамским, - писал о человеческой одежде. Порою забудет изобразить лицо человека, но его костюм опишет всегда. Раньше костюм, а потом лицо:
- «Ах, если б вы ее видели!» - восклицает Дориан о возлюбленной. - «На ней была бледно-зеленая бархатная курточка с коричневыми рукавами, узкое коричневое заплетенное лентами трико, крошечная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке».
Описав так подробно костюм своей милой, он ни слова не сказал о ее лице - и только мимоходом впоследствии заметил, что оно было как белая роза, - и сам Уайльд так часто уподоблялся в этом своему герою. Он еще не заикнулся о наружности своей Инфанты, а с первых же строчек подробно и мелочно, словно в модном журнале, изобразил ее одеяние:
«Платье на ней было серое атласное, с тяжелым серебряным шитьем на юбке и на пышных буфах рукавов, а туго затянутый корсаж весь был расшит мелким жемчугом. Из ее платья когда она шла, выглядывали крохотные туфельки с пышными розовыми бантами. Ее большой газовый веер был тоже розовый с жемчугом». («День рождения Инфанты»).
Великолепно это смакование различных деталей того или иного туалета!.. Если книги Достоевского часто были достоянием психиатров, то книги Оскара Уайльда могут быть незаменимы для ювелиров и художников портняжного цеха. Недаром Оскар Уайльд одно время редактировал «Женский Мир» (Woman’s World) - и чувствовал себя там превосходно: писал о корсетах, о шляпках, о курсах шитья и кройки. И сколько лекций, он прочитал - об одежде! [13] О его собственных костюмах, в разные периоды жизни, можно написать диссертацию. - «Оскара Уайльда создали портные, свою первую славу он добыл одеждой», - говорит о нем недоброжелательный Даглас.
И что всего поразительнее: описывая с дамским увлечением всякие бархаты, вышивки, драпировки, вуали - даже кашемировый халат Дориана - все, что создано иглою и резцом, что сотворил человек для украшения человека, он совершенно не замечает, не хочет заметить источник всякой красоты - природу. Этот комнатный, салонный писатель чаще воспевал брилльянты, чем звезды, и синий шелк для него был прекраснее, чем синее небо.
Искусственную красоту он лелеял, а от естественной отворачивался. Он, пожалуй, любил бы природу, если бы ее отшлифовали ювелиры, и рукодельницы расшили бы узорами. Как ему жаль, что Творец не был декоратором и вышивальщиком! В своих книгах он как будто старается исправить эту ошибку Творца. Когда он говорит о природе, он говорит о ней так, будто купил ее у золотых дел мастера или в модной дамской мастерской:
«Туманы - как желтый шарф».
«Сквозь кисейное облако улыбается месяц».
«Пена - как кружево, а луна - в вуали из желтого газа».
«Розовые лепестки, как лоскуточки шелка», - вот его обычные образы.
«Стрекоза, словно синяя нить, пронеслась на кисейных крылышках».
Про Темзу он выразился: «словно трость из яшмы».
«Овощи - как будто из нефрита».
«Море - как щит».
«Земля - как медный полированный диск».
«Луна из тонкого серпа становится серебряным щитом».
«Дерево растет золотое, и плоды у него серебряные».
В зимнюю стужу - «земля, как серебряный цветок, а луна, как цветок золотой».
Как будто в мастерской у Фаберже изготовлена для него природа, и даже морские сирены были у него сработаны кропотливым ювелирным резцом: «ее волосы, - говорит Уайльд, - были подобны влажному золотому руну, и каждый отдельный волос был как тонкая нить из золота, опущенная в хрустальный кубок. Ее тело было как слоновая кость, а хвост был жемчужно-серебряный. Жемчужно-серебряный был ее хвост, и глаза - аметистово-лиловые».
Ни единого пейзажа, ни дуновения свежего воздуха! - комнаты, стены, ковры! Изо всех созданий природы Уайльд любит только цветы (у него на страницах много орхидей и тюльпанов), но цветы оранжерейные, искусственно выхоленные, тоже как будто не настоящие.
Вообще, ничего настоящего, стихийного, природного, все искусное и искусственное; недаром в одном романе, где выведен Уайльд, изображается, как он взял цветочек гвоздики и велел выкрасить его в зеленую краску, и только такую крашеную гвоздику удостоивал носить в своей петлице. Ах, если б ему позволили раскрасить, перекрасить весь мир! Вот он выводит пред нами слона - и даже слон у него крашеный:
- «Его хобот был расписан шафраном и киноварью, и на ушах у него была сетка из алых шелковых шнурков».
Он пожалуй, хотел бы, чтобы и люди были раскрашены, раззолочены, - подальше от естества и естественности. «Его борода и волосы, - говорит он о ком-то в «Гранатовом Доме», - были окрашены лепестками розы, а щеки были напудрены каким-то мелким золотым порошком. Его ладони и ступни его ног были желты от желтого шафрана. На восходе он вышел в серебряной одежде, а на закате вернулся в одежде из золота. Когда он увидел меня, он поднял свою крашеную бровь».
И, такой раскрашенный мужчина ложится после на крашеные львиные шкуры, ибо разве может Уайльд допустить, чтобы львы были естественной окраски! В «Саломее» у какой-то женщины волосы голубого цвета, а в сказке «Рыбак и его душа» девичьи ноги окрашены лавзонией, и так эффектны у Оскара Уайльда какие-то дикари, которые все тело свое красят черным и желтым, - такие декоративные краски!
Раскрасьте цветы, раскрасьте зверей и людей, сделайте облака из кисеи, а розы - из шелка, а деревья - из золота и серебра, а пену морскую - из кружев, а фавнов - из слоновой кости, - и Оскар Уайльд зарыдает от радости, созерцая такое неестественное естество, такую искусственную природу, как рыдал у него Дориан, и закричит от восторга, как кричал Молодой Король, когда видел тонкие одежды или красивые шали!
Этого короля привезли из лесов, оторвали от природы, и он позабыл о ней, о закатах и восходах, ради бирюзы, шелковых ковров и слоновой резной кости. Ему привезли из Венеции картину и, как перед иконой, он пал перед ней на колени. Он горячими губами, как икону, целовал античную статую.
Уайльд тоже целовал бы античную статую, но совершенно не мог бы понять, почему это русский поэт написал:
И вдруг в каком-то светлом вдохновеньи
Поцеловал я землю.
[А. Федopoв]
И другой слово в слово то же:
И, упав, твое лицо
В губы черные целую.
[Вал. Брюсов]
Целование земли, которое в нашей поэзии так часто -
Вы не умеете целовать мою землю
Так, как я целую.
[Ф. Сологуб]
показалось бы Уайльду весьма неопрятными неэстетическим поступком.
Он был самый оторванный от земли, самый нестихийный, самый неорганический в мире человек, и весьма показательно, что в первой книге стихов он воспевал не героев, не возлюбленных, - как свойственно юным поэтам, - а поэтов: Суинберна, Китса, Россети, Морриса; художника - Барн-Джонса; актеров: Эрвинга, Сарру Бернар, Эллен Терри.
Он книжный, он сочиненный, он насквозь культурный, и если пишет стихи об избиении христиан в Болгарии, то потому, что знает, в какой книге, на которой странице Мильтон написал такое же стихотворение. В юношеской своей поэме «Сад Эрота» он на какой цветок ни посмотрит, сейчас вспомнит какую-нибудь книгу, какую-нибудь книжную легенду, которую вычитал только вчера в излюбленных Оксфордских фолиантах.
Книжные страдания для него мучительнее настоящих, и вот Дориан, когда умерла его невеста, говорит:
- Ах, как бы я плакал, если бы прочитал об ее смерти в какой-нибудь книге!
Но главное и высшее обаяние эта искусственная, как будто не настоящая, комнатная душа видела только в вещах, только в изделиях рук человеческих - и часто, когда он творил для себя, когда он хотел отдохнуть от изнурительного своего остроумия, он не столько пел, не столько живописал, сколько «вышивал» - вышивал шелками, золотом и серебром, и вся его книга «Под сенью гранатов» есть в сущности такое вышивание, и как прекрасно там подобраны шелка:
- «Жрецы, одетые в желтое, безмолвно двигались меж зеленью дерев, и на черных мраморных плитах стоял красный, как роза, дворец, в котором и жил этот бог. Крыша была сделана из зеленою фарфора - цвета морской воды... На голове у жреца была черная митра из войлока, украшенная серебряными полумесяцами».
Это - вышивание, это - узор, это - какой-то самотканный ковер, и в таком (опять-таки женском) рукодельничании была величайшая амбиция Уайльда, как художника. Он так и назвал свои стихи: «Декоративные Панно» - и когда Критики порицали его роман о Дориане Грэе, он гордо ответил им:
- «Это, ведь, чисто-декоративный роман!»
- «Портрет Дориана Грэя - золотая парча!» - хвалил он свое произведение впоследствии. Один герой у него говорит: - «Я хотел бы написать роман, который был бы так же очарователен, как персидский ковер, и, конечно, так же далек от действительности».
Персидский ковер, парча - для Уайльда идеал, высшее выражение красоты, ибо в ковре и в парче нет ни мысли, ни чувства, ни природы, ни сходства с действительною жизнью, а только услаждение глаза. «Одни краски», - восхищается Уайльд - «не испорченные никакою вложенною в них мыслью и не связанные с определенной формой, могут многое сказать душе тысячью разнообразных способов. Гармония тонкой соразмерности линий и пятен отпечатлевается в нашем уме. Повторность узора успокаивает нас. Причудливость рисунка возбуждает воображение».
В своей книге «Замыслы» он восторгается тем, что на персидских коврах нет даже изображения цветов. Когда в «Дориане» он хочет похвалить какую-то книгу, он говорит:
- Она прекрасна, как гобелен!
Каких-нибудь духовных, идеальных, метафизических сущностей он в искусстве не ищет - и откровенно их презирает. В высшей степени сенсуальная натура, он (по-женски!) не признавал никаких отвлеченностей, искусство для него было сладостно, как вино, как духи, как поцелуи. То религиозное и спиритуалистическое содержание, которое внесли в искусство предшественники Уайльда, прерафаэлиты, - для него, их наследника и даже последыша, было враждебно и чуждо. «Форма и цвет говорят нам только о форме и цвете - и больше ни о чем»! - высказывал он не раз. Прозрение миров иных - для него величайший абсурд. Он бы никогда не написал, что
В беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир! -
потому что он любил только «предельное», только «зримое», только то, что можно осязать. Мистика и метафизика искусства никогда не соблазняли его.
«Кто же согласится», - восклицает Уайльд, - «променять изгиб хотя бы одного лепесточка розы на то бесформенное, неосязаемое существо, которое так высоко ставит Платон? Что нам до откровения Филона, до бездны Эккарта и даже до того чудовищного неба, которое раскрылось пред ослепленными очами Сведенборга?»
Вечность и бесконечность - не для Оскара Уайльда. «Эллины, - твердит он в «Замыслах», - были народом художников именно потому, что им было неизвестно понятие о бесконечном и беспредельном. Мы стремимся только к конкретному, и только одно конкретное может нас удовлетворить [14]».
«К чему мне моя душа?» - готов он сказать вслед за героем одной из своих сказок. - «К чему мне моя душа? Ведь, я не могу видеть ее. Я не могу прикасаться к ней. Я не знаю, какой она формы».
Напрасно русские символисты, возникшие в начале двадцатого века, считали его своим. Символизм был ему чужд и враждебен.
IX
Вот такая-то красота, укороченная и урезанная, оторванная от природы, от правды, от духовности, скорее не красота, а красивость, и составляла святыню этой парадоксальной души.
Он видел, сколько всегда тянется рук, чтобы поработить красоту, видел, что она в рабстве у этики, в рабстве у науки и общественности; мы хотим в ней найти философскую мудрость; мы ищем в ней религиозных прозрений, в красоте же есть только одно - красота! Красоте не довлеют ни мысли, ни чувства, и стена из синего фарфора так же прекрасна, как любая картина Леонардо!
Уайльд оборвал все нити между искусством и человеческим сердцем, все нити между искусством и миром, - и, встал на страже, как влюбленный рыцарь, у порога своего божества, - и чуть только ему померещится, что кто-нибудь покушается осквернить этот храм, он всеми стрелами своих парадоксов, всеми шутихами своих афоризмов изгонит оттуда дерзновенного, и его ли вина, что ему не дали другого оружия, а только эти детские стрелы!
Патетична и грандиозна такая борьба человека со всею жизнью, со всею вселенной, во имя чего бы такая борьба ни велась. Взять какой-нибудь гвоздик мироздания, пылинку - любую, ведь их так много! - и заслонить этой пылинкой весь мир, и сделать из этой пылинки своего фетиша, отдать ей всего себя, - это ли не высший пафос истинно-религиозной души!
О, сколько протянуто рук, чтобы поработить красоту! То Оскару Уайльду почудится, что к красоте подкрадывается мораль и хочет сделать ее своею служанкою, и вот уже, закрыв глаза, ничего не видя и не слыша, он стремглав налетает на врага, и от морали ничего не остается: мы уже видели, как исколол он ее своим булавочным копьем. «Всякое искусство безнравственно!» - запальчиво возглашает он. - «Всякое искусство - преступление». «Зло есть проявление идеи о красоте». Смотрите: вот отравитель и убийца, а как изысканно они служат искусству. Убив свою возлюбленную, Дориан отправляется в оперу и с упоением слушает Патти. Убив художника Бэзиля, он берет роскошное издание тонкого французского поэта и восхищается стихами о Венеции, об этой «бело-розовой Венере со струисто-жемчужной грудью» [15].
И когда преступника - в рассказе Оскара Уайльда - упрекают, зачем он отравил какую-то девушку, он оправдывается именно эстетикой:
- То, что я сделал, действительно ужасно, но у этой девушки были такие толстые ноги.
А когда Оскару Уайльду померещилось, что искусство хотят подчинить порывам и упованиям нашего сердца, он тотчас же восстал и на сердце человеческое.
- «Искренность в малой мере опасна для красоты, а в большой - прямо пагубна».
- «Ведь все плохие стихи - порождение искреннего чувства».
- «Красота, настоящая красота, кончается там, где начинается одухотворенность».
И он не только высказывает это, он пытается это доказать. Актриса Сибилла Вэн, в его романе, была гениальной актрисой и великолепно играла влюбленную, покуда сама не была влюблена. Но когда она влюбилась, когда в ее жизни появился настоящий Ромео, когда она ощутила себя Джульеттой - она стала играть Джульетту бездарно, мертво и напыщенно. Искренность ее чувства помешала ее игре; искренность помешала искусству! «Душа есть только у искусства, а у человека души нет!» - вот до какого абсурда, по обычаю, доводит Уайльд свою заветную мысль.
Но главный его враг и обидчик, от которого он должен был защищать красоту, была жизнь, то, что называется действительностью: люди, природа, дела, все факты и явления бытия. Как смеют утверждать, что жизнь - это главное, а искусство только отражение, только зеркало жизни! Что жизнь выше, реальнее искусства! Нет, это жизнь, как жалкая обезьяна, подражает во всем искусству, копирует все его движения и жесты. Искусство - единственная реальность, а в жизни все - призраки, химеры и фантомы. «Я люблю театр, он гораздо реальнее жизни!» - вызывающе повторяет Уайльд. - «Офелия более реальна, чем играющая ее актриса», доказывает он в «Дориане». «Этот танцор плясал, как марионетка, но, конечно, не так натурально», - говорит в его сказке какая-то девочка. Марионетки натуральнее людей! и Уайльд рассказывает, как Великий Инквизитор, сжегший живых людей без счету, увидав игру марионеток, растрогался и прошептал, что ему больно видеть, что простые куклы на проволоках, из дерева и крашеного воска, могут быть так несчастны и переживать такие тяжкие бедствия».
«Единственно реальные люди - это те, которые никогда не существовали», - и с ошеломительным остроумием Уайльд доказывает, что жизнь плетется где-то позади за искусством, и что лондонские дамы, например, одно время не только перенимали прически и платья с картин Россети и Барн-Джонса, но даже лица свои сделали такими, какими видели их на этих картинах. И так бывает всегда. Гамлета изобрел Шекспир, и сколько в жизни потом появилось Гамлетов и Гамлетиков! «Весь мир предался меланхолии, оттого, что когда-то вздумала загрустить марионетка». Нигилиста изобрел Тургенев, и жизнь уже потом воспроизвела этот тип. О, не даром греки в спальне у новобрачной ставили красивую статую. Греки знали, что, если в минуту страсти она будет смотреть на эти создания искусства, то зачатые ею дети окажутся красивы, как статуи. Жизнь позаимствует и воплотит линии и образы искусства.
Так прочь же жизнь! Она не нужна, сделаем из нее создание искусства, будем певцами, художниками, архитекторами своей собственной жизни. Превратим ее в симфонию или в золотую парчу, будем созерцать ее, как древнюю трагедию. «Для Дориана Грэя» - говорит Уайльд - «сама жизнь была первым и величайшим из искусств», - и вот Дориан сегодня превращает себя в католика, завтра в дарвиниста, послезавтра в мистика; художественно перевоплощается, творит свою жизнь, как легенду, веря, что в этой «творимой легенде» больше реальности, больше правды, чем в действительной жизни.
Творите же из жизни легенду, как в рассказе Уайльда леди Алрой, этот «Сфинкс без загадки». Она была такая скучная, ничем не выдающаяся, и вот создала свою жизнь, как сказку, сама выдумала себе какую-то несуществующую тайну, - сделала себя самое как бы произведением искусства и стала обаятельно-прекрасной.
И эта милая девочка Сэсили в комедии «Как важно быть серьезным»: она сама себе писала любовные письма, она обручилась с незнакомым (и даже несуществующим) возлюбленным, и в этом поэтическом преобразовании скудного бытия - ее главное, ее единственное очарование. «Будьте же, люди, поэтами своей жизни!» - убеждает Уайльд. - «Верьте, что ложь поэзии правдивее правды жизни».
И он рассказывает мудрую сказку о «Преданном друге». Один был правдивый друг, а другой притворщик и лжец. Один был предан на деле, а другой только на словах. Один неискренне, но поэтически рассказывал о дружбе, только рассказывал, а другой - всей душой этой дружбе служил и даже жизнь отдал за друга, И что же! Для сердца человеческого, оказывается, были нужнее не дела, а слова, поэтическое притворство, сладостная легенда дружбы, не лик, а личина, и если один отдал другому свою жизнь, так именно за эту личину, за эту легенду, за лживые и сладкие слова.
О, слова поэзии властительнее над человеком, чем дела жизни, - они более факты, чем сами факты: именно из-за слов и только слов, люди восходят на костры.
- «Слова, слова, простые слова! Да разве в жизни есть хоть что-нибудь более реальное, чем слова!» - восклицает Уайльд в «Дориане». «Маска всегда скажет нам больше, чем самое лицо», повторяет он в «Замыслах».
И не говорите ему, что наши дела и поступки, все строительство и созидание жизни, даже наши подвиги и наше геройство имеют хоть какую-нибудь ценность.
Нет, во всех наших поступках мы рабы, и только в искусстве, только в творчестве - свободны:
- «Когда человек действует, он марионетка; когда он описывает, он поэт».
- «Всякое действие ограничено и относительно. Беспредельна и абсолютна лишь греза».
- «Историю может делать всякий, писать ее может только великий человек!».
Как ничтожны были те герои, которых воспел Гомер, перед ним самим, перед Гомером!
Проклянем же всякое делание, будем сновидцами и созерцателями, попытаемся не делать, но быть - или вернее: воплощаться то в то, то в другое создание искусства. «Ничего не делать - самое трудное дело в мире, самое трудное и самое интеллектуальное... Избранные существуют для того, чтобы совершенно ничего не делать».
X
Вот мозаически составленный мною, - боюсь, чересчур кропотливо! - из памфлетов, сонетов, комедий, трагедий, сказок, статей, повестей, афоризмов - символ веры этого фланера и дэнди, и мы с удивлением видим, что перед нами и вправду религиозный фанатик, упрямый, прямолинейный, доведший свою веру до последней, невозможной черты, отвергший, как некий Савонарола, решительно все, что неугодно его сектантскому богу.
Мы видели, как он восстал против жизни, против неба, против совести, против морали, против природы, против души человеческой и против истины (прочтите его «Упадок Лжи», - и все из-за того, что ему всюду мерещились поработители и осквернители его Дульцинеи)!
Мы много встречали проповедников искусства для искусства и мучеников этой идеи, и героев, но такого Савонаролы, такого фанатика, который сделал бы искусство мерилом всех вещей и ценою всех ценностей, мир еще никогда не видал. Самая напряженность, самое постоянство этой единственной его заветной мысли, единственного подлинного чувства, - в каких бы личинах они ни являлись перед нами, говорят нам о их религиозной сущности. Это была единственная точка, вокруг которой он заставил вращаться весь мир. Это было солнце его мира. Ничего, что фанатически отгоняя от искусства все его «посторонние примеси»: чувство, разум, добро, он, в конце концов, как мы видели, должен был остаться с одним только персидским ковром, с одним только орнаментом и декоративными тканями, стал рыцарем и Дон-Кихотом персидского ковра, это ничего, потому что такими и бывают всегда настоящие сектанты-фанатики: пусть символом всей их святыни будет какая-нибудь самая малая малость, они отдадут за нее и душу, и тело.
Трогательно наблюдать, как Уайльд, подобно всем одержимым, видит в своей вере панацею решительно всех болезней и зол. Дориан лечился созданиями искусства, будто это были пилюли, и мы не раз читаем в романе: «красота цветов исцелила его от страданий».
Заговорите при Уайльде об ужасах милитаризма, и с великолепной наивностью он тотчас же даст вам совет:
- «Начните служить искусству, и война сама, собою прекратится».
«Конечно», - поясняет он в «Замыслах»: - «люди не скажут: мы не станем вести войны против Франции, потому что проза ее совершенна, но так как французская проза совершенна, они перестанут ненавидеть страну» [16].
Заговорите о братстве народов, и вы услышите от Уайльда:
- Искусство создает среди людей новое братство.
Заговорите о воспитании, он скажет:
- Если детей вырастить среди прекрасных созданий искусства, то... и т. д.
О чем бы вы ни заговорили, он всегда переведет на свое. Он был уверен, что его трактат о социализме - есть трактат о социализме, а на самом деле, вчитайтесь, конечно, это трактат об искусстве. Его тюремная исповедь «De Profundis», тоже свелась на эту единственную тему. Его роман - о чем, как не об искусстве! В нем главное действующее лицо - портрет. Уайльд умудрился написать, даже целую повесть, где главные персонажи - сонеты Шекспира!
Как и все одержимые, он умел говорить лишь о своем, и даже утка в одной его сказке крякает о художественной критике. Когда в «De Profundis» он захотел восславить Иисуса Христа, он сказал: - «Иисус Христос был гениальный художник!» Высшей хвалы он и представить себе не может, и с какой благочестивой наивностью воздает Богочеловеку эту высшую честь: сопоставляет Его с Софоклом и Шелли.
И в своих сказках, когда он хочет наградить добродетель, он (инстинктивно!) награждает ее красотой. Это единственная для него ценная награда. И он не знал иной кары, чем уродство, - проследите-ка все его сказки: звездный мальчик был злой, и оттого он безобразен, как жаба. Сделался хороший, и превратился в красавца.
XI
Но вот поразительная и почти невероятная черта.
Был король - совсем как Оскар Уайльд: он без экстаза не мог созерцать ни бирюзу, ни слоновую кость, ни шелковые персидские ковры, и ни о чем ином в последнее время не думал, а только о золотой парче, в которую он должен облечься, о короне, украшенной яхонтами и о жемчужном жезле. Над этими бесценными уборами ювелиры трудились день и ночь, и даже такой строгий ценитель, как Оскар Уайльд, остался бы доволен их работой. Но во сне король увидал, что яхонты эти добыты страданием и что «на станке Скорби бледными руками Страдания» выткана золотая парча.
Тогда король отрекся от яхонтов, отрекся от мантии, вообще от всех созданий искусства, которые он так религиозно обожал, и - чудо! - Уайльд не покарал его за такое отступничество, а, напротив, именно за это, за отречение от красоты, наградил его новой красотой: «лучи соткали для короля мантию, прекраснее той, которая была приготовлена для его торжества. Сухой посох зацвел лилиями белее жемчуга, и цветы их засверкали серебром... И как ангельский лик стало лицо короля».
И другая сказка - точно такая же: статуя «Счастливого Принца», тоже ради человеческих страданий, отреклась от своей красоты, от сапфиров, от рубина и золота, и стала прекраснее прежнего перед Господними взорами в раю.
Что же это такое? Величайшая красота - в отречении от красоты, это пишет Уайльд в ту самую пору, когда с особенной страстью защищает свою бессмысленную, безчувственную, бездуховную красоту-декорацию, красоту-узор, - и разве не против себя выступает он в своей романтической сказке о «Соловье и Розе», о том, как поэт-соловей хотел создать прекрасную песнь и для этого грудью прижался к острому, колючему шипу, и шип вонзался все глубже, и по каплям сочилась живая кровь, и только кровью, только смертью, только жертвой, только последним страданием была осуществлена красота!
Что же это такое? Уайльд против Уайльда! Какое-то странное судьбище: Уайльд - и прокурор, и судья, и обвиняемый. И когда в одной его сказке Рыбак, который отрекся и от мудрости и от богатства, и от своей любви, не отрекся от красоты, Уайльд жестоко покарал его за это. Тут же рядом, в одно и то же время, этот парадоксальный человек, с одинаковой безумной чрезмерностью, проповедует и радость красоты и красоту страдания. Из той же глины, из которой была изваяна статуя вечного горя, ваятель лепит (в одной его притче) прекрасную статую радости.
Что же это такое? Уайльд и сам не знал. Ему вначале казалось, что это у него лишь декоративный эффект, такой же, как и все остальное. Кровь человеческая часто бывает прекрасным колоритным пятном!
- Я думал, что это у меня просто фраза! - чистосердечно признавался он впоследствии. (См. De Profundis).
И, конечно, в первое время это было почти так. Как опытный литературный мастер, Уайльд не мог не понимать, что в страдании очень много разных поэтических возможностей, и часто говорил о страдании чересчур красиво, чересчур эффектно, чересчур поэтично, так что литература литературою и оставалась; вы можете восхищаться ею, но плакать над нею не станете. Как бисер, он нанизывает фразу на фразу, и вслушайтесь: это только фразы! Они прекрасны, но не слишком ли прекрасны! - «Поистине, Скорбь есть владычица этого мира, и нет ни одного человека, кто избег бы ее сетей», - ритмически скандирует Уайльд. - «Есть такие, у которых нет одежды, и есть такие, у которых нет хлеба. В пурпур одеты иные вдовицы, а иные одеты в рубище. Прокаженные бродят по болотам, и они жестоки друг к другу. По большим дорогам скитаются нищие, и сумы их пусты. В городах по улицам гуляет Голод, и Чума сидит у городских ворот».
В этих ритмических фразах, конечно, не прилив сострадания и нежности, а все такое же вышивание шелками и бисером, такое же равнодушное, прекрасное рукоделие великого декоративного мастера.
Но когда, наконец, совершилось: когда в ручных кандалах, в одежде каторжника, с обритой головой, «клоун страдания», стоит он среди толпы, и толпа гогочет над ним, и кто-то плюет ему в лицо, когда боль, позор и унижение наконец-то пришли к нему, и он каторжник Рэдингской королевской тюрьмы, и его друзья покинули его, и его жена умерла от горя, и от него отняли его детей, и он разорен, и у него нет даже денег, чтобы пригласить адвоката, и книги, сочиненные им, сожжены, и пьесы его сняты со сцены, и самое имя его сделалось словом запретным, тогда-то (как принято думать) он обрел себя впервые и уже не шепотом, как прежде, не в иносказаниях и притчах, а громко, торжественно, могуче пропел восторженный гимн страданию в своих пленительных Записках из мертвого дома.
- Где страдание, там Святая Земля! - выкрикнул он с новой фанатичностью. - Сердца только затем и существует, чтобы быть разбитыми!
Только в муках рождаются миры, и без мук не проходит ни рождение ребенка, ни рождение звезды. Страдание - напряженнейшая, величайшая реальность мира. Страдание - единственная истина, никакая истина не сравнится с страданием. Страдание величайшее счастье, - вот последний, о, нисколько не салонный парадокс, который дала ему жизнь. За весельем и смехом может скрываться жестокий и грубый темперамент; за страданием кроется только страдание. Страдание не носит маски, как радость. Счастие, успех, благополучие могут быть грубы по внешности и вульгарны по своему существу, но страдание - самое нежное, что только есть на земле... и т. д., и т. д., и т. д. И, конечно, величайшая хвала, которую он может воздать этому новому своему божеству - та же самая его вечная хвала: страдание - высшее проявление искусства.
Наконец то этому страдальцу-эстету открылась вся эстетика страдания, и он с удивлением вспомнил, что и прежде - «в ярме наслаждений» - он чувствовал то же самое, что «прообраз и тень» таких чувств являлись и в былых его книгах. Но теперь его осенило вполне: «страдание и то, чему учит оно, - вот новая для меня вселенная».
О, счастлив тот, чье сердце может
Разбиться на пути!
Как иначе очистить душу
И новый путь найти?
Когда не вглубь сердец разбитых, -
Куда Христу сойти? [17]
Это не просто гимн страданию - это религиозный псалом. Признав страдание единственною сущностью мира, Уайльд - с той же своею сектантскою страстью, во имя этого нового бога, отвергает все остальное. - «Мораль мне не поможет», - говорит он. - «Религия мне не поможет». - «Разум мне не поможет». - И, заново отринув все ценности, - религию, разум и мораль, - он, как некогда из искусства, сделал теперь алтарь из страдания и так же безоглядно поклоняется этой новой святыне. «Ко мне шли, - говорит он в De Profundis: - чтобы научиться радостям жизни и радостям искусства. Но кто знает? - может быть, я избран для того, чтобы научить людей более великому: смыслу и красоте страданий».
Когда-то он высокомерно творил, что только в таких несчастных странах, как Россия, «единственным путем к совершенству, пожалуй, является страдание», но что для остальною человечества нужна проповедь нег и услад; теперь он с благоговением поминает имя Достоевского и молится «белоснежному Христу, пришедшему, как он творит, из России».
Это преображение Уайльда было особенно оценено нами, русскими, и нет такой русской статьи, посвященной Уайльду, где не твердили бы о его раскаянии, перерождении, катарсисе. А между тем, если вникнуть внимательно, такого перерождения не было.
Это смиренномудрое страдальчество - такая же поза, как и все остальное.
Бедный Уайльд утешался ею, как мог. Здесь была его последняя услада. Он драпировался в свой арестантский наряд и по-женски примерял, словно пред зеркалом, «терновый венец страдания». Вечный позер и актер (ирландская, кельтическая кровь!) он так вдохновенно разыграл пред собою эту роль просветленного мученика, что и сам поверил в нее и сам умилился ею, и вот потекли, заструились прихотливые, великолепные периоды его музыкальной композиции - De Profundis.
Это была бы великая книга, мировое откровение для всего человечества, если бы в ней оказалась хоть одна нетеатральная фраза, нашелся хоть один не-эффектный жест! Каждая ее строчка есть чудо искусства, но - искусства ораторского. Нарочита и вычурна ее старательная простота! Как восхищались ею знатоки изящного слога, специалисты по красноречию, когда она появилась в печати. - «Вы только вслушайтесь, сколько раз повторяется здесь это f: «If after I am free a friend of mine gave a feast», смаковал один, а другой прибавлял: «Какие дивные нюансы ритмики, какая превосходная инструментовка!» И приводил эту изумительную строчку: - «I am completely penniless and absolutely homeless». (См., наприм., Ингльби. «Oscar Wilde», 371-378).
Но чем больше таких восторгов, тем явственнее ощущаешь, что пред тобою опять декламация, а не исповедь, что все это для эстрады, а не для души, что Уайльд и здесь - Уайльд: поведи ею на дыбу, все равно не вырвешь задушевного.
В своих тюремных записках он, например, уверяет себя, что его, наконец-то, потянуло к природе - к простому и первобытному. Но когда читаешь этот излишне-красивый, чересчур музыкальный период: «Природа, чей благодатный дождь падает на правых и неправых, найдет для меня ущелья, где бы мог я укрыться, и глухие долины, в молчании которых мне никто не помешает рыдать. Она осыплет свои ночи звездами, чтобы никто не мог преследовать меня; в великих водах она очистит меня, исцелит меня горькими травами» - когда читаешь эти размерные строки, чувствуешь, что все безнадежно, что природа здесь не причем, что это поток восхитительных слов, которыми он сам же зачарован, и дайте ему свободу, он кинется не в «глухие долины», не в «ущелья», а в тот же Париж, в рестораны, в ночные кафэ, не к «великим водам природы», а по-прежнему к коньяку и абсенту! Не даром же он всю жизнь учил, что природа существует лишь затем, чтобы иллюстрировать творения поэтов, что картины Коро и Констэбля лучше подлинных видов природы.
- Тюрьма совершенно переродила меня, - сказал он Андре Жиду, посетившему его в Берневале. - Все прежнее - позади, начинается новое.
Но что же новое? Где же перерождение? Уайльд, написав De Profundis, прославив блаженство страдания, - вскоре по выходе из Уэнсворта снова нарядился в экстравагантный костюм, привлекающий всеобщее внимание, снял безумно роскошную виллу - на последние деньги, подаренные ему друзьями, снова окружил себя поклонниками, молодыми людьми, к неудовольствию суб-префекта полиции, и осаждаемый письмами и телеграммами того самого лорда Альфреда, которого он так проклинал в De Profundis, и от которого отрекался, как от виновника всей своей гибели, снова сблизился с ним, поехал к нему в Позилиппо, в Неаполь, до последней минуты требуя от жизни услад, ни разу ни проявив ни того отречения, ни самоотвержения, которое прославил в «De Profundis».
В этой тюремной исповеди он старательно подкрепляет себя чужими именами и мыслями. Словно не доверяя себе, он ссылается на Еврипида, на Франциска Ассизского, на Линнея, Кропоткина, Уордсуорта, Ренана, Данте, Эмерсона, Гете, Шекспира, Мэтью Арнольда, Бодлэра, Дюма, Вэрлэна, Достоевского, Уолтера Патера и т. д., и т. д. Он и здесь был гениальный имитатор и создавал эту новую роль по тысяче многоразличных образцов.
И вот агония: последние годы, предсмертные. Полутруп, получеловек, в полутемной какой-то конуре. Ютится из милости, под чужою фамилией. Утром бутылка абсенту и вечером бутылка абсенту. Полученный в юности сифилис разъедал его отравленный вином организм. Лютая головная боль по неделям не покидала его. Последняя его острота была, что он жил не по средствам, и вот не по средствам умирает.
Изредка - в ресторане с друзьями (снова зеркала и огни!), но в публике ропот, подбегает лакей, и нужно уходить. А если не к зеркалам и огням, куда же ему пойти? Он всю душу, все творчество отдал зеркалам и огням, - праздничной и праздной толпе. Он был лучшее и благороднейшее, что только создано так называемым «обществом», «светом»: его вкусы и образы, его темы и стиль, его восприятие жизни и приемы мышления - все было взращено и взлелеяно великосветской салонной культурой, которая в нем, в его творчестве, получала на миг как бы оправдание и смысл. И она же привела его к гибели. А другой культуры он не знал. Демократию не мог полюбить, как ни старался. «Я не люблю твоих сынов, Демократия! их тусклые, тупые глаза не видят в мире ничего, кроме собственных постылых несчастий», - писал он в одном раннем сонете.
Правда, он был социалист, но - салонный.
- «В интересах самих же богатых мы должны завести социализм», - таков был лозунг этого салонного Бебеля. Те бедняки, которых в его повестях наблюдают из окна или кэба разные высокородные дэнди, ничего кроме брезгливого сострадания и ужаса не внушают этим господам.
Если бы Уайльд прожил еще два-три года, до той поры, когда его эстетизм стал достоянием демократических и полудемократических масс всей Европы, он быть может ощутил бы себя окрыленным для нового творчества. Но он умер накануне своей славы, не предчувствуя, что через несколько лет его имя станет всемирным.
Печальны были его предсмертные дни.
В мае 1900 года он приехал в Париж - умирать. Дни и ночи проводил в кафэ, много пил и не брезгал развлекать своей изумительной речью незнакомых собутыльников, - каких-то студентов, которые относились к нему свысока. Кроме французского поэта Поля Фора и еще двух-трех человек, он не встречался ни с кем. Все двери были заперты для него. Деньги у него водились случайные, и он не умел их беречь. Порою он испытывал большую нужду, но уже не боролся с нуждой. Вообще он уже ни с чем не боролся: им овладело равнодушие к себе и ко всему своему, - предсмертная покорность судьбе. В сентябре у него начался менингит, тяжелое заболевание мозга [18]. Ужасные головные боли мучили его по целым неделям, но он уже не мог отказаться от ежедневных бутылок вина. 10 октября он подвергся небольшой операции, не имеющей отношения к его главной болезни. После операции он настолько оправился, что 29-го октября встал с постели и ушел в кафэ. 30-го он взял фиакр и отправился кататься по Парижским садам, - это была его последняя прогулка. Вернувшись, он слег и уже не вставал: очень ослабел, часто бредил, порою истерически плакал. 29-го ноября он перешел в католичество и был соборован католическим патером. На следующий день началась агония, свидетелем которой был его друг Роберт Росс, описавший ее в одном частном письме.
- «Около половины шестого утра», - пишет Росс, - «он вдруг неузнаваемо переменился, изменились все черты его лица и началось то, что называется предсмертным хрипением. Такого хрипения я еще никогда не слыхал. Оно было похоже на отвратительный скрип мотыля и не прекращалось до последней минуты. Глаза перестали реагировать на свет. Пена и кровь непрерывно шли изо рта. Хрипение становилось все громче. В три четверти второго дыхание резко изменилось. Я подошел к кровати и взял умиравшего за руку. Пульс бился беспорядочно. Из груди у него вырвался глубокий вздох, единственный подлинный вздох за все это время; руки и ноги, казалось, непроизвольно вытянулись; дыхание стало слабее, и ровно в 50 минут второго он скончался.
3 декабря 1900 года состоялись скудные похороны на невзрачном парижском кладбище. За гробом шло два-три человека. 20-го июля 1909-го года, благодаря хлопотам Роберта Росса, прах поэта был торжественно перенесен на кладбище Рerе Lachaise, и над могилой воздвигнут громоздкий и пышный памятник.
Послесловие
Судьба словно ждала, чтобы Оскар Уайльд скончался, и подарила мертвому ту всемирную славу, которой он так жаждал при жизни.
Как бы мы ни относились к его творчеству, мы должны признать, что он заслужил эту славу, так как он умел писать для всего человечества. Форма его произведений оказалось по вкусу разноязычной, разноплеменной, международной, всемирной толпе, которая и в кинематографе, и в дешевых театрах, и в тысяче популярных изданий поглощает с колоссальным аппетитом и «Дориана Грэя», и «Саломею», и «Счастливого принца». Слава Уайльда давно разошлась по всему континенту, от Атлантического океана до Тихого, и, кажется, нет языка, на который не были бы переведены его книги.
Не странно ли что этот салонный эстет стал через несколько лет после смерти одним из самых демократических, плебейских писателей?
Конечно, до широкий международной толпы не доходят ни орнаменты его нарядного стиля, ни его эстетико-религиозные догматы, но ей довольно и причудливой фабулы, которая у Оскара Уайльда всегда необычайно эффектна. Ни у кого из основоположников эстетической школы, ни у Раскина, ни у Уолтера Патера, ни у Джона Эддингтона Саймондса не было такой эффектной фабулы, и только Уайльд придал их учению те крылья, на которых оно облетело весь мир.
К нам в Россию Оскара Уайльда принесла та самая волна символизма, которая около четверти века назад хлынула к нам из Европы, неся на своем хребте и Эдгара По, и Ибсена, и Метерлинка, и Бодлэра, и Верлэна, и Д’Аннунцио, и Пшебышевского. Русский читатель поневоле воспринял Уайльда, как одного из вождей символизма, хотя идейно с символизмом Уайльд боролся всю жизнь, ратуя за чистое эстетство, свободное от мистики и метафизики, В искусстве он любил лишь материю, а всякую отвлеченную красоту презирал, - и странно было видеть его имя рядом с именами Гиппиус, Сологуба и Блока. То были поэты нездешнего мира, а он только здешним и жил. Это недоразумение произошло оттого, что в русском символизме с самого начала наметилось пагубное для него тяготение - к декадентству, - к эстетизму, - к модернизму. Русский символизм никогда не имел строго очерченных рамок, и по мере своего развития все больше расплывался в модернизме, вовлекая в свой круг враждебные и чуждые ему идеи, имена, направления. Только этим можно объяснить, почему в лагере русских символистов явились такие писатели, как например, Шнитцлер, Кузмин, Ведекинд и Оскар Уайльд. Произведения Оскара Уайльда много способствовали внутреннему разложению русского символизма, превращению его в общедоступный, - ненавистный символистам - style moderne. Ибо Уайльд, по самому существу своего дарования, по всем своим литературным приемам был, как мы только что видели, популяризатор искусства и, сам не сознавая того, творил для широкой толпы, падкой на салонную эстетику, приспособляя к ее вкусам высшие достижения французских и английских художников.
За это то и недолюбливали его англичане. В России объясняли их нелюбовь лицемерием и ханжеством, но главные причины были иные. Дело в том, что, в глазах англичан, Уайльд не был зачинателем нового стиля, а, напротив, завершителем старого. Те черты его творческой личности, которые кажутся нам столь самобытными, не могли в такой же степени привлекать англичан, для которых он - подражатель. Они часто ощущали его, как вульгаризатора своих мудрецов и поэтов. Успех Уайльда в России отчасти объясняется тем, что русские читатели не знали ни Китса, ни Суинбэрна, ни прэрафаэлитов, ни Раскина, ни Уолтэра Патэра, ни Саймондса, ни других вдохновителей того ренессанса, блестящим эпигоном которого явился Оскар Уайльд. Русская литература всегда была далека от английской, и оттого черты, присущие многим английским писателям, у нас были сочтены принадлежностью одного только Оскара Уайльда.
Но как бы ни были глубоки и возвышены те литературные гении, которыми вдохновлялся Уайльд, у них не было одного дарования, присущего только ему: они не умели писать для всех, для широкой международной толпы, они творили только для тесного круга ценителей. Он же апеллировал ко всем, ко всему человечеству, и - единственный из всего поколения - сделался всемирным писателем.
Те были слишком британцы, слишком островитяне, - почвенные, национальные гении.
Он же рядом с ними - иностранец. Для англичан он не английский писатель. Он писатель без почвы, без родины, самый интернациональный изо всех британцев 80-х и 90-х годов.
В этом была его сила - и слабость.
Литература:
1. Cэр Уильям Роберт Уиллз Уайльд (1815-1876), вице-президент Королевской Ирландской Академии: директор глазной и ушной лечебницы св. Марка в Дублине, написал следующие книги: "Описание путешествия в Мадейру, Тенерифф, Алжир, Египет, Палестину, Кипр и Грецию" (1840). - "Австрия, ее литературные, научные и медицинские учреждения" (1843). - "Красоты Бойна и Блэкуотера" (1849). "Последние годы Свифта" (1849). - "Ирландские народные суеверия" (1852) и несколько медицинских трактатов. О нем см. Cambridge History of English Literature, XIV, p. 572, Critical Dictionary, by S. Austin Allibon, Philad. 1900, vol. III, p. 2718.
2. леди Джэн Франциска Уайльд (1826-1896) особенно памятна в литературе как автор риторических стихов о картофельном голоде в Ирландии. Писала под псевдонимом Сперанца. В 1864 г. ее стихи были собраны в отдельную книжку "Poems by Speranza". В 1870 г. эта книжка вышла повторным изданием, с портретом автора. И сейчас еще в специальной литературе цитируются такие ее книги, как "Древние обряды, заклинания и медицинские обычаи в Ирландии", "Старинные Ирландские легенды" и пр.
3. Oscar Wilde: The Story of An Unhappy Friendship, by Robert Sherard. London, 1909, pp. 226-227.
4. Альфред Даглас. Оскар Уайльд и я, стр. 47-55.
5. "Oscar Wilde and Myself" ("Оскар Уайльд и я"), p. 150.
6. Уистлер был большой остроумец, и про одну его остроту Оскар Уайльд воскликнул:
- "Как жаль, что ее придумал не я".
- "Ничего! вы придумаете ее завтра" - утешил его насмешливый друг.
Благосклонный к Уайльду Рэнсом пишет о его книге стихов:
- "Мильтон, Данте, Марлоу, Китс, Роберт Броунинг, Росетти, Моррис, - вот недурной каталог пострадавших от пиратства этого литературного корсара".
7. Эти строки перенесены тридцатилетним Уайльдом из его ранней поэмы "Равенна" в поэму "Сфинкс".
8. А через два года после свадьбы предался извращенностям, которые и погубили его. Именно к этому времени и относится лучшая пора его творчества. Он пишет в эту пору "Перо, карандаш и отрава", "Упадок лжи", "Саломею", "Сказки", "Критик, как художник", и т. д. Расцвету его женственност соответствует расцвет его таланта.
В молодости он увлекался женщинами, но к 35-ти годам охладел к ним. В пору его театральных успехов, он был окружен почитательницами: "оскаристок" была целая секта, и он, сенсуальная натура, был поразительно равнодушен к ним.
9. Сэр Роджер Ньюдигэт завещал Оксфордскому Университету капитал для выдачи денежной премии победителю на ежегодном конкурсе поэтов-студентов.
10. Подобное эпизодически встречается и в нашей словесности. У Некрасова: "По шапке - Сенька". У Михайловского: "Не пей из колодца, - наплевать придется". У Н. Бурлюка: "Один семерых не ждет". В английской - это сделалось манией. Все творчество современного даровитого писателя Честертона заключается в таком перевертывании всевозможных общепринятых мыслей, с тем, однако, чтобы все по-прежнему осталось на старом месте.
11. См. пасквильный роман современного писателя Роберта Гиченса "The Green Carnation", где изображен Оскар Уайльд и один из его друзей лорд Альфред Даглас. Роман был переведен на русский язык и лет 25 назад напечатан в журнале "Русская Мысль" под заглавием "Зеленая Гвоздика". Многие думали, что этот роман написал сам Уайльд. Такое предположение оскорбляло его. "Нет - говорил он, - я автор цветка, а не книги. Я сочинил этот великолепный цветок, но не эту пошлую и бледную книгу, которая присвоила себе его причудливо-прекрасное имя. Цветок - произведение искусства. Книга - нет!".
12. Замечательно: эти строки были уже написаны и напечатаны мною, когда в книжке Артура Рэнсома, вышедшей года два или три спустя, я встретил ту же мысль: "У него, - говорит Артур Рэнсом, - были все свойства шарлатана, кроме одного: он действительно был тем, чем притворялся". Рэнсом отлично выразил то ощущение, которое было и у меня: "Уайльд принимал позу эстета. Он был эстет. Он принимал позу блестящего человека. Он был блестящий человек. Он принимал позу культурного. Он был культурен".
13. О роли костюма в поэзии он написал целый трактат "Истина Масок", и там, наперекор всему свету, с великим увлечением доказывал, что нет ни одного драматурга, который придавал бы так много значения костюмам для достижения иллюзионных эффектов, как именно Шекспир, что фасоны воротников, цвет чулок, узор на дамском платочке были принимаемы Шекспиром близко к сердцу, и что только из-за этого многие его творения оказались так поэтичны и глубоки.
14. "Пусть другие верят в невидимое", - пишет он в "De Profundis", - "я верю только в то, что можно видеть и осязать, на земле я обрели и всю красоту небес и все ужасы преисподней". "Истинная тайна мироздания, - утверждает лорд Генри: - в видимом, а не в невидимом".
15. "Область искусства вне сферы морали!" - утверждает Уайльд в "Замыслах". - "Эстетика выше этики". "Этические пристрастия в художнике - непростительная манерность стиля". "Понимание красок и цветов важнее в развитии личности, нежели понятия о зле и добре".
16. Эта мысль, очевидно, была очень ему дорога, он повторил ее несколько раз: см., например, его лекции: "Ренессанс английского искусства", "Об украшении жилищ".
17. Перевод Валерия Брюсова.
18. См. "Oscar Wilde", by Arthur Ransome, pp. 216-219.
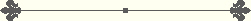
При заимствовании материалов с сайта активная ссылка на источник обязательна.
© 2016—2026 "Оскар Уайльд"